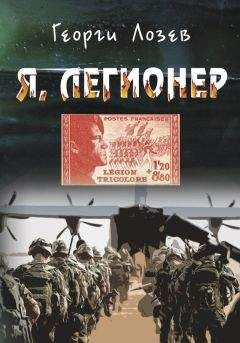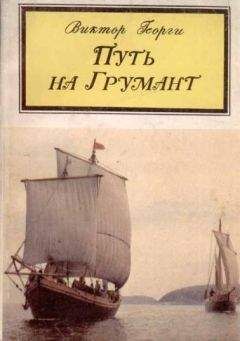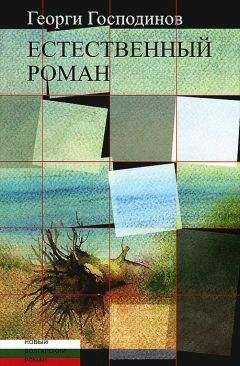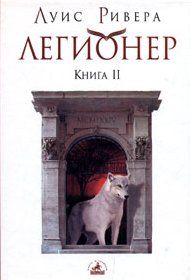Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга первая
Относительно Розенберга мне сразу показалось, что хоть я еще не знаю, какой он художник, хоть с виду он и очень скромный, вовсе не блестящий малый, все же он нам подходит. Не откладывая, я и пригласил его к себе на ближайшее собрание друзей, а Валечку и Диму предупредил, что придет некий молоденький (он был старше меня на три года) художник-еврейчик, что стоит им заняться и потому я их прошу не слишком его смущать, чтобы сразу не спугнуть. Последняя просьба была не лишняя. Оба моих друга отличались несравненно меньшей терпимостью, нежели я, а к тому же в своей компании они охотно распускались, и тогда невоздержанность их языка могла быть иногда и оскорбительной. Особенно Дима отличался этим дефектом: он с какой-то непонятной жестокостью озадачивал новичков колкими замечаниями и коварными вопросами. Вообще Дима a priori презирал всякого нового знакомого; в нем возникал вопрос — достойно ли данное лицо знаться с ним, с таким феноменом ума, остроумия и образованности, каким он себя (не без некоторого основания) считал.
Но все обошлось благополучно. Введение в наш кружок Левушки Розенберга произошло без какого-либо трения, и к концу первого же вечера он так освоился, что стал свободно высказывать свои мнения и попробовал даже поспорить с одним и с другим. Помнится, что какой-то художественный спор возник между ним и Скалоном, и я с удовольствием убедился в том, что в лице Левушки Розенберга мы, «идеалисты», получили подкрепление. Ясно было, что и ему претят теории материалистического и утилитарного уклона и что он — художник в душе. Кроме того, меня тронуло, с какой жадностью Розенберг разглядывал иллюстрации в журналах и в книгах, причем некоторые его замечания свидетельствовали об его вообще вдумчивом отношении к искусству. Правда, тут же обнаружилось, что его художественное образование оставляло желать лучшего. Он, например, не был знаком с целым рядом наших тогдашних кумиров — с Беклиным и Менцелем во главе, а об английских прерафаэлитах имел самое смутное, чисто литературное представление. Что же касается до современной французской живописи, он абсолютно отрицал значение импрессионистов, о которых, впрочем, имел одно только теоретическое представление — по роману «L’Oeuvre» («Творчество») Золя. Напротив, Левушка придавал преувеличенное значение разным модным художникам как русским, так и иностранным — К. Маковскому, Семирадскому, Фортуни, Мейсонье, Жерому, Фламенгу, Маккарту и даже Зихелю. Для нас же все эти мастера были пройденными вехами.
К дружескому отношению к Левушке Розенбергу у нас примешивалась и доля жалости. Он поведал мне и Валечке, как трудно ему живется. Оставшись без средств после внезапной кончины отца — человека зажиточного (биржевого деятеля), успевшего дать детям приличное начальное воспитание, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтоб не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и еще совсем юного брата. Кроме того, он не желал бросать Академию художеств, в которой состоял вольноприходящим учеником. Эти занятия в Академии брали у него немало времени, а на покупку необходимых художественных материалов не хватало и вовсе средств. Значительную поддержку Розенберг находил в лице старинного знакомого нашей семьи А. Н. Канаева и его подруги жизни Александры Алексеевны, которые по доброте душевной взяли на себя и воспитание Марии Викторовны Шпак, оставшейся после кончины своих родителей круглой сиротой (теперь Мария Викторовна была невестой Альбера). В доме Канаевых Левушка был принят как сын. Он там бывал почти ежедневно, и Канаевы изо всех сил старались достать ему художественные заказы и уроки. Так, через Канаевых он познакомился с каким-то издателем популярных книжек (вернее, брошюр), для которых он сделал несколько рисунков пером. Мне запомнились два таких рисуночка — один изображал отца Иоанна Кронштадтского, пользовавшегося славой праведника и чудотворца, другой — довольно ловко скомпонованную сцену — Иоанну д’Арк на костре. Эти воспроизведенные цинкографией рисуночки были, однако, подписаны не Л. Розенберг, а Л. Бакст, чему Левушка давал довольно путаное объяснение — будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника, не то дяди, не то деда. (Я и сейчас не обладаю достоверным объяснением имени «Бакст», которое Левушка со дня на день предпочел фамилии Розенберг. Последняя значилась у него в официальных бумагах. Едва ли в данном случае действовала встречавшаяся иногда в еврейском быту адаптация дедом внука, что делалось главным образом для того, чтоб внуку избежать военной повинности.) Путал Левушка что-то и про свое «отчество». Так вдруг, он попросил адресовать письма к нему не на имя Льва Самойловича, а Льва Семеновича, а затем, через еще несколько месяцев, он снова вернулся к «Самойловичу»… — вероятно, найдя это имя более благозвучным.
Левушка Бакст был первый еврей, с которым я близко сошелся, и некоторое время он считался единственным евреем в нашем кружке, так как А. П. Нурок, примкнувший к нам в конце 1892 г., решительно отрицал свое иудейское происхождение, всячески стараясь выдавать себя за англичанина, благо его отец был автором известного учебника английского языка. Нурок, впрочем, был крещеный еврей, тогда как Розенберг-Бакст остался (до самой своей женитьбы на православной) верен религии отцов, отзываясь о ней с глубоким пиететом и даже с оттенком какого-то «патриотизма». Послушать его, так самые видные деятели науки и искусства и политики в прошлом были все евреями. Он не только (вполне по праву) гордился Спинозой, Дизраэли, Гейне, Мендельсоном, Мейербером, но заверял, что все художники, философы, государственные деятели были евреями, раз они носили библейские имена Якова, Исаака, Соломона, Самуила, Иосифа и т. д. (однако почему-то он не включал в эту категорию и всех Иванов, которые, однако, тоже носили библейское имя Иоанна). На этом основании Левушка в евреев произвел и всех трех Рейсдалей, и Исаака ван Остаде и т. д., да и в принадлежности к еврейству Рембрандта он не сомневался на том основании, что великий мастер жил в еврейском квартале Амстердама и что среди позировавших ему людей было много иудеев. Одного из таких раввинов Рембрандта Левушка в те времена как раз копировал в Эрмитаже и не уставал любоваться не только красотой живописи, но и величественностью осанки этого старца.
Принадлежность к еврейству создавала Левушке в нашем кругу несколько обособленное положение. Что-то пикантное и милое мы находили в его говоре, в его произношении русского языка. Он как-то шепелявил и делал своеобразные ударения. Нечто типично еврейское звучало в протяженности его интонаций и в особой певучести вопросов. Это был, в сущности, тот же русский язык, на котором мы говорили (пожалуй, даже то был более грамматически правильный язык, нежели наш), и все же в нем одном сказывалась иноплеменность, экзотика и принадлежность к востоку. Что же касается до оборотов мысли, то кое-что в этом нам нравилось, а другое раздражало, смешило или злило. Особенно раздражала склонность Левушки к какому-то увиливанию — что-то скользкое, зыбкое. Уличив его несколько раз в очень уж явной лжи, мы стали эту черту в нем преследовать насмешками. Сначала он всячески оправдывался и отнекивался, но когда его припирали к стене, то с обезоруживающим благодушием он сознавался, а то и каялся. Вообще он допускал, чтоб приятели позволяли с ним всякие вольности, и уже благодаря этому между нами и им интимно дружеские отношения установились очень скоро. Не прошло и трех месяцев с начала нашего знакомства, как уже все были с Левушкой на «ты» и он был признан равноправным членом нашей компании, а осенью того же 1890 г. он даже удостоился занять должность спикера в нашем пиквикианском «Обществе самообразования» — должность, дававшую ему, между прочим, право трезвонить в специальный колокольчик. Однажды для водворения тишины и порядка он дозвонился до того, что бронза колокольчика дала трещину, в чем, кстати сказать, можно найти косвенное указание на то, до какой напряженности и ярости доходили наши прения.