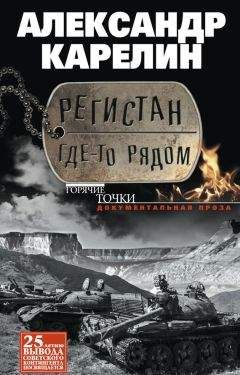Владимир Стасов - Училище правоведения сорок лет тому назад
Да, Серов был у нас первым в училище и по музыкальной способности, и по музыкальному образованию. Еще дома, мальчиком он получил такую солидную музыкальную подготовку, как никто из всех нас.
Отец его, Николай Иванович Серов, ровно ничего не понимал в музыке, да навряд ли и любил что-нибудь в ней, но почему-то считал очень комильфотным и бонтонным, чтоб у него в доме производилась постоянно музыка. Когда его старший сын, Александр, был еще маленьким ребенком, у них уже собирался, по зимам, струнный квартет, где главные исполнители были первые скрипки тогдашней петербургской оперы, Семенов и Лабазин. Всего вероятнее, что этот квартет в доме Серовых завел священник Турчанинов, великий приятель Николая Ивановича, сочинитель многих «херувимских» и другой церковной музыки (в очень сентиментальном, дилетанском и мало музыкальном стиле). Он пламенно любил музыку, хотя мало знал ее, и нередко певал у Серовых, аккомпанируя себе на фортепиано. Старшие двое детей в этом доме, Александр и Софья, оба по натуре очень художественные вообще и музыканты в особенности, прыгали от радости, когда Турчанинов садился за фортепиано, и бежали сказать своей маме, что «бог та-та-та!» (т. е. священник вот сейчас заиграет и запоет): в то время бог и священник выражались у них одним и тем же словом. Турчанинов дал, наверное, первый толчок музыкальному развитию и брата, и сестры. Квартет, им устроенный у Серовых, тоже очень сильно повлиял на музыкальное направление обоих.
Когда потом пришло время учиться музыке, обратились к квар-тетистам. Один из них, Лабазин, порекомендовал в учительницы молодую девушку, Олимпиаду Григорьевну Жебелеву; ей было всего 16 лет, но она была уже сильная музыкантша и отлично начинала давать уроки музыки, солидно и необыкновенно тщательно. Она была дочь старого актера, игравшего с большим успехом на императорском театре роли «злодеев», хотя он был не что иное, как добродушнейший и милейший смертный на всем земном шаре. Я познакомился с ним уже в глубокой его старости, в 1855 году, когда затеял писать историю русских церковных и иных хоров и мне нужно было собирать со всех сторон сведения от уцелевших представителей русской старинной жизни (о нем я буду еще говорить ниже). Молодая Жебелева уже с ранних своих лет должна была прокармливать свое семейство. Для этого она пошла давать уроки, к чему отлично была приготовлена с детства: она училась сначала у немки Радеке, потом у поляка Марецкого (в конце 1820-х годов одного из лучших петербургских фортепианистов) и из этой школы вынесла самое солидное немецкое музыкальное образование и направление. Мне непременно хотелось рассказать все это, для того чтобы у нас знали, откуда и каким путем пришло к А. Н. Серову, с самого начала, то направление, которое характеризовало его в продолжение главной части его жизни и которому он стал вдруг изменять лишь в последние свои годы. Что касается материальной стороны дела, то благодаря частым урокам О. Г. Жебелевой и еще более частым свиданиям с нею, всегда проводимым за фортепиано в игре в две и в четыре руки, Серов уже лет 8–9 хорошо читал музыку с листа, а в 12–15 лет превосходно. Что же касается стороны художественной, то в него с самых ранних лет заложена была прочная любовь и уважение ко всему немецкому в музыке: других композиторов, кроме немецких, он в то время и не знал. Главным музыкальным репертуаром для него служило немецкое издание «Opernkranz», т. е. нечто вроде хрестоматии, содержащей отрывки из разных опер — конечно, немецких. Вначале 1830-х годов прибавилась к ним «Фенелла», любимая опера всего серовского дома до самого конца их жизни. После нее скоро поступил в фавориты всего дома также и «Роберт».
С таким музыкальным запасом Серов поступил в 1-ю гимназию, но там музыка не только не процветала, но вовсе ровно ничего не значила. Я думаю, во всей гимназии никто даже не подозревал, что между этими 14- и 15-летними мальчиками есть один, который весь день только и думает, что о музыке, ею только и дышит.
Когда Серов поступил в Училище правоведения, дело приняло совершенно другой оборот. Он попал на самую настоящую свою точку. Трудно было бы ему желать почвы благодарнее и соединения условий, более благоприятных для развития его музыкальных способностей. По счастью, в то время еще не было в Петербурге консерваторий, и, значит, ничто и никто не наложил на мнения и вкусы Серова казенного цехового пошиба, неизбежного во всех консерваториях и безопасного лишь для натур очень сильных и самостоятельных, какою никоим образом не был Серов. Консерваторское направление и классы, наверное, изуродовал;: бы его с самого же качала. В училище, напротив, никто не вмешивался в его вкусы и настроение, и он мог итти, как самому ему было угодно. Вначале он выступил фортепианистом и на диво всем товарищам-музыкантам и самому Карелю, не могшему довольно нахвалиться им, исполнял a-moll'ный концерт Гуммеля с оркестром, считавшийся у нас по целому училищу геркулесовыми столпами творчества, глубокой значительности, красоты и трудности. Но скоро потом, не знаю по чьему желанию, отца своего, а может быть, и самого принца, он взялся за виолончель и стал ревностно учиться ее технике. Повидимому, он в то время, как и все, считал, что один инструмент другого стоит и что скрипка, что виолончель, что флейта, что кларнет, что фортепиано — все одно и то же, каждый инструмент в своем роде. На деле он должен был бы, кажется, прекрасно понимать, что фортепиано — это целый оркестр, да еще с прибавкой хора и солистов: ведь он на нем исполнял целого «Фрейшюца», целого «Роберта», целую «Фенеллу», и однакоже — огромная непоследовательность — согласился променять фортепиано на такой бедный и тощий, в своей односторонности, хотя и очень нужный в общей массе, осколок оркестра, как виолончель. Серов не имел также в то время еще ничего против учения и исполнения «пьес» соло, т. е. нелепейшего рода сочинений по всей музыке. Он преспокойно и преравнодушно сносил их, точно будто делом занимался. Впрочем, все самые ревностные труды его ни к чему не повели, и он никогда не был даже и порядочным виолончелистом. Самой большой помехой ему в этом всегда была рука — слишком малая, с короткими, кургузыми и слабосильными пальцами. Несмотря на все этюды и экзерциции, ежедневно ревностно проигрываемые в спальнях училища в продолжение бесчисленного множества часов в году, в антрактах между лекциями, пальцы у него никогда так и не растянулись, не приобрели ни силы, ни беглости, ни эластичности на струнах. У него хватило всего этого только для фортепиано, где система и условия совершенно другие. Одно только у него было несомненно хорошо, когда он играл на виолончели: прекрасный, полный тон. Но для этого необходимо ему было, чтоб пьеса непременно шла в порядочно медленном темпе и не было «пассажей», всегда ему недоступных. Всего чаще Серов играл, в училищных концертах, фантазии и вариации Дотцауера и других ему подобных ординарных немцев, а иногда просто переложенные для виолончели темы из немецких опер, например, из «Оберона», «Фрейшюца», в очень медленном темпе adagio. Однакоже и в этом роде он настолько отличался, что принц постоянно приходил в великое восхищение от его виолончельной игры, а также вообще от его музыкальности и незадолго до выпуска его из училища подарил ему прекрасный складной пюпитр из красного дерева, на футляре которого стоял вытисненный золотом стих Горация: