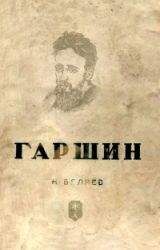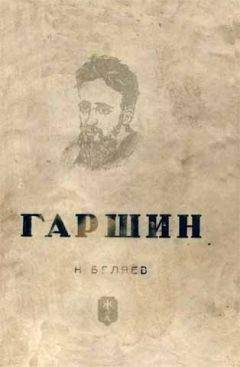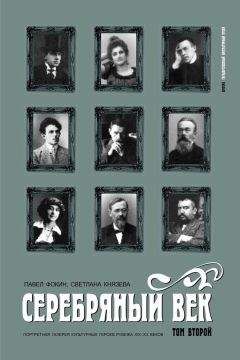Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
При исключительной любви к детям, для которых она писала столько милых стихов и рассказов, Поликсена Сергеевна, как ее брат Владимир, питала отвращение к физическим условиям деторождения и думала, что в этом отношении люди должны переродиться. Здесь идеи Мережковского и Гиппиус заводили ее иногда на весьма неверные и скользкие тропинки, где незаметно теряется грань между абсолютным целомудрием и извращенностью, которая морально стоит неизмеримо ниже естественных животных путей…» (С. Соловьев. Воспоминания).
«Она терпеть не могла, чтобы, знакомя кого-нибудь с ней, прибавляли „сестра Владимира Соловьева“. Или даже, говоря о ней, это сестринство отмечали. „Оттого, что мой брат «обыкновенный необыкновенный человек», – еще не следует, что я не могу существовать сама по себе“.
…Владимир Соловьев считался красивым. Если бы сбрить ему бороду, уменьшить роскошную шевелюру – он был бы, пожалуй, совсем Поликсена. А Поликсена определенно некрасива. Волосы, еще темные тогда и короткие, лежат со лба не гладко, но и не пышно; у нее толстые губы и смуглые щеки.
…Она писала картины и портреты (долго посещала московскую школу „Живописи и ваяния“). Она писала стихи, печаталась в журналах, издала несколько книжек. Пробовала себя и в прозе, в беллетристике. В последние годы перед войной даже издавала детский журнал „Тропинка“ вместе с Н. И. Манасеиной, у которой вдруг открылась способность писать исторические романы для детей. Следует упомянуть также, что Поликсена некоторое время занималась своим редким голосом, чудесным контральто: мне случалось несколько раз слышать ее, просто в комнате, без аккомпанемента, и это было удивительно. Но не знаю, пела ли она когда-нибудь, если слушателей было больше двух-трех человек.
Я не знаток живописи, но мне всегда казалось, что в рисунках и портретах Поликсены чего-то не хватает: может быть, какой-то техники, но такой важной, что она уже не техника. Видно было (мне, по крайней мере) прилежное старание выразить что-то, может быть, настоящее, для нее понятное и важное, что, однако, не выражалось.
С ее стихами и литературой дело обстояло немного иначе…
Если не мужественности, то мужества было немало в цельной натуре Поликсены. По-соловьевски страстная, скрытная – и прямая, она была религиозна как-то… непотрясаемо и точно насквозь. Никогда о религиозных вопросах не говорила; даже о брате Владимире с этой стороны. Нельзя вообразить ее с кем-нибудь тут спорящей. Даже верила с такой неуязвимой твердостью, что кто-нибудь сомневающийся вызывал в ней искреннее удивление. Неверие казалось ей невероятным. Она как будто знала, что и рассуждать о таких вещах не нужно, потому что они есть, как есть любовь и вечная жизнь. Не боялась смерти, – своей; в смерти другого страшила ее возможная длительность разлуки: „Сколько нужно терпения; может, и не хватит“.
…У нее был тонкий литературный вкус и способность к легкому стихосложению (завидная для меня). Владимир тоже обладал этой способностью. Повторяю, между ними было немало черт сходства, – полувнешних, у Поликсены смягченных: в склонности к юмору, к постоянным остротам (хотя бы неудачным), даже громкий смех Поликсены чуть-чуть напоминал братнин. Но в ее юморе чувствовалось больше доброты. В „серьезные“ стихи она очень много вкладывала своего, себя со своей „талантливостью“, но, как и в картинах, чего-то в них недоставало» (З. Гиппиус. Поликсена Соловьева).
СОЛОГУБ Федор Кузьмич
Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публикации в журналах «Весы», «Золотое руно», «Северный вестник», «Северные цветы». Стихотворные сборники «Стихи» (СПб., 1896), «Тени (Рассказы и стихи). Кн. II» (СПб., 1896), «Собрание стихов (1897–1903). Кн. III и IV» (М., 1904), «Родине. V книга стихов» (СПб., 1906), «Змий. Стихи. Книга VI» (СПб., 1906), «Стихи. Книга VII» (СПб., 1907), «Переводы из Верлена» (СПб., 1908), «Пламенный круг (Стихи). Кн. VIII» (М., 1908), «Война» (Пг., 1915), «Земля родная (Избранные стихи)» (М., 1916), «Ярый год» (М., 1916), «Алый мак» (М., 1917), «Фимиамы» (Пг., 1921), «Небо голубое» (Ревель, 1921), «Соборный благовест» (Пг., 1921), «Одна любовь» (Пг., 1921), «Костер дорожный» (М.; Пг., 1922), «Свирель. Русские бержереты» (Пг., 1921), «Чародейная чаша» (Пг., 1922), «Великий благовест» (М.; Пг., 1923). Сборники прозы «Истлевающие личины» (М., 1907), «Книга разлук» (СПб., 1908), «Книга очарований» (СПб., 1909). Романы «Мелкий бес» (СПб., 1907), «Слаще яда» (СПб., 1912), «Творимая легенда» (СПб., 1914), «Заклинательница змей» (Пг., 1921).
«Это было в летний, или весенний, солнечный день. В комнате Минского, на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью, стола, сидел весь светлый, бледно-рыжеватый, человек. Прямая, не вьющаяся, борода, такие же бледные, падающие усы, со лба лысина, pince-nez на черном шнурочке.
В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре – спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях, не мог бы „суетиться“. Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил – это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь – такая же спокойная непроницаемость, как и молчание.
Минский болтал все время. Конечно, Сологуб слушал… а может быть, и не слушал, просто сидел и естественно, спокойно, молчал.
– Как же вам понравилась наша восходящая звезда? – пристал ко мне Минский, когда Сологуб, неторопливо простившись, ушел. – Можно ли вообразить менее „поэтическую“ наружность? Лысый, да еще каменный… Подумайте!
– Нечего и думать, – отвечаю. – Отличный, никакой ему другой наружности не надо. Он сидит – будто ворожит, или сам заворожен.
В нем, правда, был колдун. Когда мы после подружились, то нередко и в глаза дразнили его этим колдовством» (З. Гиппиус. Живые лица).
Федор Сологуб
«Тихий, молчаливый, невысокого роста, с бледным худым лицом и большой лысиной, казавшийся гораздо старше своих лет, он как-то пропадал в многолюдных собраниях. Помню, как однажды рассеянный Розанов хотел было сесть на стул, уже занятый Сологубом, так как ему показалось, что стул пуст. „Вдруг, – рассказывал он потом, – возле меня точно всплеснулась большая рыба“, – это был запротестовавший Сологуб. Он был действительно похож на рыбу – как своим вечным молчанием, так и желтовато-белесой внешностью и холодно-белыми рыбьими глазами. Он носил еще тогда скромную, „учительскую“ (он был учителем городского училища) бородку с короткими усами, тоже желтовато-белого цвета, и вообще совсем не походил на самого себя, каким он стал лет 10–12 спустя, когда, прославившись после „Мелкого беса“, бросил учительство и, сбрив бороду и усы, стал походить, со своим обрюзгшим лицом и саркастической усмешкой, на римского сенатора времен упадка (ср. бюст работы Кустодиева в Третьяковской галерее или известный портрет работы Сомова – 1910 г.). Нуждаясь в средствах, Сологуб должен был отдавать много времени и сил неприятной ему службе – особенно неприятной потому, что она заставляла его вставать рано и ограничивать ночную работу, которую он очень любил. Он завидовал мне, имевшему возможность вести как раз такой образ жизни, о котором он мечтал. „Когда разбогатею, – говаривал он, – прежде всего буду жить ночью и спать днем“. Всякий, кто знает поэзию Сологуба, поймет эту вражду с солнцем…» (П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890–1902).