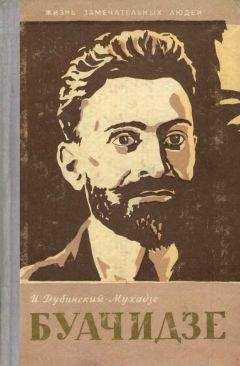Илья Дубинский - Трубачи трубят тревогу
— Сегодня двенадцатое?
— Нет! Сегодня тринадцатое апреля, пан Христюк.
Не успели оборвать вчерашний листок.
— Эх, черт, — сплюнул сердито атаман. — Я так и знал. Всегда эта чертова дюжина. Вот через то тринадцатое число вы и захватили Макс... виноват, Христюка.
Подготовив донесение начдиву о ликвидации банды, адъютант вызвал коивоиров для сопровождения атамана в Гайсин.
Особист обыскал бандита. В карманах его ватных штанов и красноармейской гимнастерки, во вспоротых швах ничего не было найдено.
— Вот вы оговорились, — обратился уполномоченный к пленному, — хотели сказать Христюк, а сорвалось Макс...
— Ничего у меня не сорвалось.
В штаб, гремя шпорами, ввалился Очерет. Не спуская глаз с пойманного атамана, приблизился к нему.
— Здоровеньки булы в нашей хате, пане хорунжий, — едко произнес казак, — старый знаёмый!
— Я тебя, хлопче, не знаю. Извиняйте, — рассердился атаман. — Не хорунжий. За согласие вернуться на Украину пан головной дал мне чин сотника.
— Как же не знаете? А Подволочиск? Еще стращали посечь меня кобелям на говядину. Шаблюки вашей, правда, не пришлось попробовать, а нагаечка у пана хорунжего Максюка горячая.
— О-о-о-черет! — широко раскрыл глаза атаман. — Через тебя, босву, мне попало от пана полковника. Тонко ты моделювал. Теперь уже не «хи-ха-ха»? Волка сколько ни корми, он все в лес смотрит.
— Эх, пане сотнику, пане сотнику! Коняка с волком тягалась, одна грива осталась. И то сказать, волки шатаются по ярам и чащам, а настоящий казак, — ударил себя в грудь Очерет, — гуляет на свободе.
— Значит, вы все-таки Максюк? — спросил петлюровца особист.
— Выходит, что так. Там я был хорунжий Максюк, здесь — сотник Христюк.
— Так и вам, пан сотник, приходится моделювать? — с издевкой спросил Очерет.
— Каждый спасается, как может, — ответил угрюмо атаман.
— Вы, кажется, спец по гаданию? — спросил особист атамана, лукаво посматривая на Очерета.
— Хотите, погадаю! — Глаза сотника зажглись лукавым огоньком.
— Куда там! — махнул рукой особист. — Свою судьбу не мог предвидеть, а о чужой говорить не приходится.
Но Максюк не смутился.
— Против чертовой дюжины и я без всяких возможностей, поймите же это, тов... люди!
Невольно мы все засмеялись. Максюк опустил голову.
— А как обнюхивали меня, искали якорь, звездочку, не забыли? Думали — меченый. Но и вы теперь без вашей метки. Где же ваш оселедец? — спросил Очерет. — Помню, вы очень тряслись над той гордостью гайдамака.
— Я эту штуку, — проведя рукой по бритой голове, развязно ответил атаман, — оставил там, за Збручем, на память нашим министрам. Им все мало грошей, может, выручат за мою прическу с сотню марок. Они там получают по двадцать три тысячи марок в месяц, а меня тут грызут двадцать три тысячи вшей. Эх, Очерете, что я тебе скажу: потерявши голову, по оселедцю не плачут...
Вот этих-то пещерных людей, вроде Максюка и его бандитов, ютившихся в лесах и терроризировавших население Подолии, изо дня в день громили казаки Первого конного корпуса. Но находилось еще немало бандитов и авантюристов в лагерях Пилсудского и в отелях Львова. И они, выгнанные в двери и пролезшие в окно, не избежали своей судьбы, встретившись на просторах Подолии и Волыни с клинками червонных казаков и котовцев.
В тот же день мы отправили Максюка в Гайсин, в Особый отдел дивизии. А по обе стороны Збруча копошились еще максюки-христюки, которые тщетно пытались борьбой против века нынешнего вернуть век минувший.
Примак — душа голоты
На завалинке поповского дома, в котором помещался штаб, смоля козьи ножки, балагурили кавалеристы. Разговор шел о командире корпуса, которого с минуты на минуту ждали в Гранове. Из Гайсина по полевому телефону передали, что комкор, следуя в штаб 8-й кавдивизии, заедет в наш полк.
Раньше казаки почти ежедневно видели Примакова, редко покидавшего поле боя. Сейчас, с окончанием военных действий, когда двенадцать полков черво»ного казачества раскинулись на огромной территории, появление командира корпуса в части было уже большим событием.
Кто-то вспомнил, как гетман Скоропадский в восемнадцатом году обещал за голову Примакова семьсот тысяч карбованцев.
Очерет, стараясь отвлечь внимание Брынзы, в кисет которого он глубоко запустил длинные пальцы, сказал с усмешкой:
— А целого мильёна пожалел ясновельможный. Теперь, думаю, он и все десять мильёнов согласный был бы отдать.
Какой-то пожилой казак, насупив брови, сказал:
— Что наш Примак, что Котовский — это самые геройские командиры по всей Красной Армии. Их сам Ленин знает. Потому они есть защитники нашего бедного класса.
Бойцы червонного казачества — и славные ветераны, заложившие основу Первого конного корпуса, и молодежь, недавно ставшая под его знамена, — любили и уважали своего командира.
— Вот я, хлопцы, ездил в Киев, — вмешался в разговор Брынза, — посылали меня по обмундирование. Там, на базарах, интересно поют слепые бандуристы. Одну их песню я заучил.
Повставайте та звiльняйтесь
Вiд панства, крiпацтва,
Дожидае нас, врятуе
Червоне казацтво.
Ой почули козаченьки
Тугу степовую —
Веди, батьку Приймаченку,
Мы степ урятуем.
Ой, Примак, душа голоти,
Лицар ти залiзний,
Потрощив без мiри щоту,
Ворогiв Вiтчизни
— Хлопцi, стривайте! — вскочил с завалинки молоденький боец-галичанин. — Так що я вам скажу, хлопцi. Подивiться на майдан! Так то ж сам Примак до нас iде!
Все повернули головы в сторону Грановской площади. Пересекая ее, в сопровождении двух адъютантов и вестовых, сдерживая разгоряченного Мальчика, нетерпеливо перебиравшего точеными ногами, приближался к поповскому дому комкор. В казачьей форме, осанистый, с обветренным строгим лицом, Примаков казался старше своих двадцати трех лет.
Осадив горячего скакуна у входа в штаб, комкор ловко соскочил с седла. Отдав поводья ординарцу, направился к казакам, словно по команде поднявшимся с завалинки.
— Здорово, товарищи «москвичи»! — приветствовал Примаков казаков. Сняв серую смушковую папаху, чистым носовым платком прошелся по стриженой русой голове.
— А вы нас не забываете, товарищ командир корпуса, — выпалил Очерет, восхищенно посматривая на боевые ордена и знак члена ВЦИК, сверкавшие на груди комкора.
![Якуб Колас - Трясина [Перевод с белорусского]](/uploads/posts/books/133718/133718.jpg)