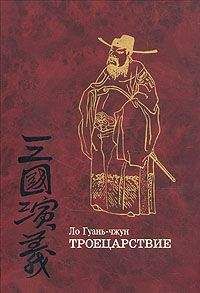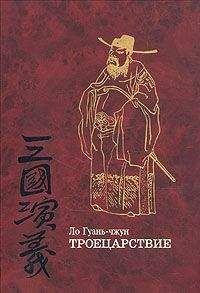Станислав Вольский - Сен-Симон
…Если люди не видели друг друга 24 часа, нельзя было быть уверенным в новой встрече. Одни шли по революционным путям, другие замышляли гражданскую, войну, третьи уезжали в Огио, строя планы новых замков, которые они воздвигнут среди дикарей, четвертые присоединялись к принцам. Все это делалось весело, причем часто люди не имели в кармане ни одного су; роялисты утверждали, что в один прекрасный день все это кончится арестом собрания, а патриоты, столь же легкомысленные в своих надеждах, провозглашали наступление царства мира, счастья и свободы…»
Надо заметить, что несмотря на все это Шатобриан-монархист признает этот период ярким и увлекательным.
Это описание относится к 1791 году. В 1793 году жизнь столицы стала еще оживленнее, но оживление это стало зловещим, трагическим. Казнят короля (21 января 1793 года), но смерть Людовика не устраняет внешних опасностей и не смягчает внутренних осложнений. Партийная борьба обостряется с каждым днем. Республиканцы раскалываются на умеренных и радикалов (жирондистов и монтаньяров), у монтаньяров образуется левое крыло, возглавляемое Маратом, а народ парижских предместий — рабочие, мелкие ремесленники — идет еще дальше и жадно ловит лозунги экономического уравнения, которые немного спустя Гракх Бабеф разовьет в стройную революционно-социалистическую систему. Монархическая Вандея, контрреволюционный Прованс объяты восстанием. Тулон сдался англичанам. Предательство, заговоры грозят задушить республику, и настороженное ухо «патриотов» всюду слышит шёпот измены. Муниципалитеты составляют списки «подозрительных», революционные трибуналы работают день и ночь, и часто не только за неосторожное слово, но и за малодушное молчание люди платятся головой.
А Сен-Симон попрежнему покупает и продает, продает и покупает. Пока гильотина рубит головы, он мечтает об огромных промышленных предприятиях, о научных обществах, совершенствующих материальный быт и общественное устройство. Речи монтаньяров и жирондистов, — думает он, — это только отвлеченные идеи, которые не выведут человечество на новую дорогу, если под ними не будет материального базиса. Только с помощью индустрии можно преобразовать страну. И эта заветная цель как будто уже недалека, — еще несколько миллионов, и можно будет бросить спекуляции и приступить к настоящему творчеству, к «великому делу». Поглощенный этими мыслями, он не замечает, как обстоятельства сплетают вокруг нег сеть, мало-помалу запутывающую его в своих петлях.
Эта сеть — слухи, сплетни, догадки, подсказанные напуганным воображением. «Странный человек, — говорят про него пероннские санкюлоты, — он спекулирует национальными имуществами, ворочает большими капиталами, — куда же денет их этот бывший граф?» «Странный человек, — вторят парижские якобинцы, — как будто революционер, — но почему же он якшается с прусским бароном?» «Да и семья неблагонадежная, — поддакивают агенты комитета общественной безопасности: — два брата эмигрировали за границу, туда же бежал и кузен, маркиз Сен-Симон, член Учредительного собрания, под начальством которого наш патриот сражался в Америке. Странно, очень странно! Подозрительна и его сестра, Аделаида, которая, — как уверяет гражданин Дюбуа, — «сторонится от людей».
9 декабря Аделаиду, урожденную графиню де Сен-Симон, арестовывают, а еще через несколько дней из Перонна поступает донос и на самого Клода Анри. В это время Сен-Симон проживает в Париже, на улице Закона (бывшая Ришелье). Друзья предупреждают его об опасности, и он решает бежать.
Наступает 19 декабря. Сен-Симон собрался к отъезду. Оседланная лошадь уже дожидается на улице. Одевшись, он спускается по лестнице и в дверях подъезда встречает двух людей, которые обращаются к нему с вопросом:
— Скажите, где тут живет гражданин Симон?
— Во втором этаже, — спокойно отвечает беглец и, пока агенты подымаются по лестнице, вскакивает на лошадь и уезжает.
Узнав, что «подозрительный» уехал, агенты арестовали домохозяина, гражданина Леже, обвиняя его в содействии побегу. Сен-Симон узнает об этом. Он не может допустить, чтобы из за него погиб невинный человек. В тот же день он является в революционный трибунал и отдает себя в руки правосудия.
Сначала его сажают в тюрьму Сент Пелажи. Он протестует, пишет объяснительные записки, излагает свои воззрения, рассказывает о своей революционной деятельности. Напрасные усилия. Точных обвинений против него нет (по крайней мере в документах их не сохранилось), на гильотину его отправить как будто не за что, но он вышел из подозрительной семьи, дружит с подозрительным иностранцем… Лучше попридержать. Так проходит четыре с половиной месяца. 5 мая 1794 года его переводят в Люксембургскую тюрьму. Это плохой знак, — Люксембургскую тюрьму называют «преддверием смерти», и кто попал туда, почти никогда не возвращается в мир живых.
В переполненной тюрьме душно, нет воздуха, маленькие оконца, проделанные на самом верху, почти не пропускают дневного света. Грязные соломенные матрасы, никогда не меняющиеся, издают тошнотворный запах. Из ведер с нечистотами, поставленных посредине камеры, текут зловонные, едкие испарения. На койках много больных, — их почти не переводят в больницу. Мертвых не убирают по нескольку дней. Кружится голова. Ухо чутко прислушивается к стонам и хрипам, к лязгу окованной железом двери, через которую люди уходят из жизни. То и дело чудится, что там, в коридоре, уже произнесли фамилию «Симон». А тут еще жестокие приступы лихорадки, которой узник заболел вскоре после перевода его в новую тюрьму.
Среди этих тяжких физических и моральных страданий одна только мысль ободряет Сен-Симона: не может быть, чтобы он погиб, не выполнив своего великого дела. Все его прошлое и особенно великий предок тому порукой. И в разгоряченном мозгу из глубин памяти выплывает образ императора Карла, разгоняя мрак и тоску.
«В самую жестокую пору революции, — рассказывал впоследствии Сен-Симон, — когда я сидел в Люксембургской тюрьме, ночью мне явился Карл Великий и сказал мне: «С тех пор, как существует мир, никакой семье не выпадало на долю чести родить и первоклассного героя, и первоклассного философа. Честь эта выпала моему дому. Сын мой, твои успехи в философии сравняются с теми, которые достались мне, как воину и политику». С этими словами он исчез».
27 июля 1794 года (9 термидора по революционному летоисчислению) казнили Робеспьера. Кончился террор, начинается царство «термидорианцев», подготовлявших под эгидой Директории похороны революции. Тюрьмы опустели, — даже явных контрреволюционеров выпустили на свободу. А Сен-Симона все держат и держат, о нем забыли. Наконец, 9 октября 1794 года — почти через четыре месяца после термидорианского переворота — двери тюрьмы распахиваются перед Сен-Симоном, и он снова возвращается к своим спекуляциям и своим мечтам.