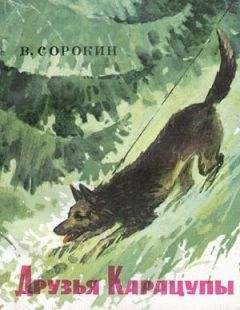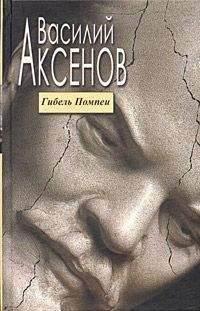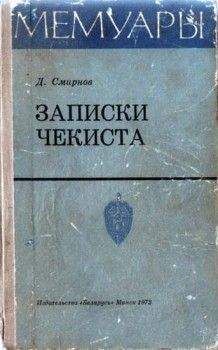Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
Но эта скука получала и объяснение, и раскрытие, когда Николай Алексеевич всходил на кафедру: сверкать умом, жизнью, блеском, срывать голубой покров неба и показывать коперниканскую пустоту в величавых жестах и в величавых афоризмах, которые он не выговаривал, а напевно изрекал, простерши руки и ставя перед нами то мысль Томсона, то мысль Максвелла, то свою собственную: «На часах вселенной ударит полночь…» Пауза: «Тогда начнется — час первый…» Или: «Мы — сыны светозарного эфира»… или: «Ньютоново представление силы описало магический круг вокруг атома…» Он любил пышность не фразы, а углубленной мысли, к которой долго подбирал образ… И образы его были крылаты; он ширял на них; и ставились они перед сознанием нашим всегда неожиданно, при демонстрации очень помпезно обставленного опыта. Он любил помпу в хорошем смысле; и поражал наше студенческое воображение [Эта любовь к эстетике опыта получает освещение в эстетическом восприятии самой физической вселенной, как арфы, Н. А. (См. очерк, посвященный Н. А. Умову профессором А. И. Бачинским)63].
Никогда не забуду, как однажды по взмаху его руки упали все занавески в физической аудитории: мы — остались во мраке; вспыхнул луч проекционного фонаря, с потолка спустилась веревка с гирею, которую раскачали тут же; и мы внятно тогда увидели на экране появление тени и отлетание тени; а мрак пропел голосом Умова: «Мы присутствуем при вращении земли вокруг оси».
А как он готовил нас к событию обнародования трех принципов Ньютона! И, подготовив, вывесил гигантский плакат с аршинными буквами: «Principia, sive leges motus» (Принципы, или законы движения); войдя, мы ахнули; а он, подхвативши наш «ах», с великолепною простотою, но образно, вскрыл нам ньютонову мысль.
Он вводил в суть вопроса, как жрец, сперва протомив подготовкою; взвивал занавесь, и мы видели не историю становленья вопроса, а некую драму-мистерию; так, пленив нас вопросом, он углублялся уже в детализацию и раскрытие чисто математических формул.
Я потому останавливаюсь на Умове, как лекторе, что, пожалуй, из всех профессоров он был самый блестящий по умению сочетать популярность с научной глубиною, «введение» с детализацией: редкая способность!
И через двадцать лет, вспоминая его, я отразил Николая Алексеевича в стихах:
И было: много, много дум,
И метафизики, и шумов…
И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов.
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию, —
Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновые вихри
И что огромные миры
В атомных силах не утихли…64
Статьи Умова, касающиеся вопросов общей физики, не уступают классическим, цитируемым речам мировых ученых, — Томсона, Лоджа, Пуанкарэ. Умов в лучшем смысле был не только философ, но и бард физики; он заставил и приучил меня на всю жизнь с глубоким трепетом прислушиваться к развитию физической мысли; и еще недавно, в двадцать седьмом году, возвратясь к некоторым проблемам атомной механики, читая Иоффе, Френкеля, Михельсона, Томсона и Резерфорда65, я благодарил Умова за ту подготовку, которую он нам некогда дал. Прошло двадцать семь лет; но, едва коснувшись физики из совсем других горизонтов, я нашел в себе все то, что им было выгравировано в моем мозгу; он дал возможность почувствовать самый ритм кривой истории физики66.
Н. А. Умов был новатором; в его голове бродили научные идеи огромной важности; он первый сформулировал идею о движении энергии, которая укоренилась в науке, подтвердясь в специальных работах.
Сперва он вскрывает реальный базис понятия «потенциальная энергия», как кинетической же, т. е. реальной, но конкретно не вскрытой в данной системе сил; теоретическая замкнутость системы становится фактически не замкнутой, ибо она замкнута в средах, еще не ощупанных реально. Позднее он меняет формулировку своего принципа, формулирует понятие о плотности энергии и т. д.; проводит он свою мысль в ряде конкретных работ (дает ряд дифференциальных сравнений, конкретизирующих его положение) — вплоть до теории упругости, его теоремы становятся известны за границей; «закон Умова» входит в историю физики, в сфере электромагнетизма его теории подтверждаются позднее английскими физиками, к корпорации которых он принадлежит, как «доктор» Глазговского университета; его работы рекомендует вниманию гениальный Томсон (Кельвин); его раннюю работу о стационарном течении электричества использовал Кирхгоф в формах, нарушающих добрые нравы науки (т. е. почти сплагировал) [Заимствую эти данные из «Очерка жизни и трудов Ник. Ал. У,мова», написанного проф. А. И. Бачинским, внесшим корректив в мою летучую характеристику научной деятельности профессора и указавшим мне на роль Н. А., как творца научных идей, за что я приношу благодарность проф. Бачинскому; будучи знаком с Умовым-лектором, педагогом и автором блестящих статей, я, увы, был неосведомлен о значении его чисто научных работ; и. у меня слетела в первом издании «На рубеже» неосторожная фраза об Умове-ученом: «Сам он не был открывателем новых путей». Оказывается, он-то им и был. Спешу исправить в этом издании погрешность первого издания].
Убежденный картезианец, он, однако, менее всего страдал узостями «механизма», подобно многим картезианцам своего времени, соединяя четкость методологической мысли с высокими и глубокими полетами.
Умов был вдохновителем и интерпретатором высот научной мысли.
Высокий, полный, седой, с огромным челом, с развевающимися «саваофовыми» власами, с прекрасной седой бородой и с мечтательными голубыми глазами, воздетыми горе, с плавно дирижирующей каким-то кием рукой, — кием или жезлом, которым он показывал то на доску, то на машины, приводимые в движение тоже в свое время знаменитым ассистентом Усагиным, он — пел, бывало; и — некое «да будет свет» слетало с его уст.
Лекции Умова по механике напоминали мне космогонию; ход физической мысли делался воочию зримым; формулы вылеплялись и выгранивались, как почти произведения искусства; кинетическая теория газов была им, так сказать, соткана перед нами из формул, как тонкая шаль, которой он попытался окутать и мир жидких тел, и мир твердых, как ступени осложнения тех же простейших газовых законов. Огромная область физики была им высечена перед нами, как художественное произведение, единообразное по стилю; мы почти видели, как из хаоса молекулярных биений сваивалась предметность обставшей видимости.
![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/uploads/posts/books/45116/45116.jpg)