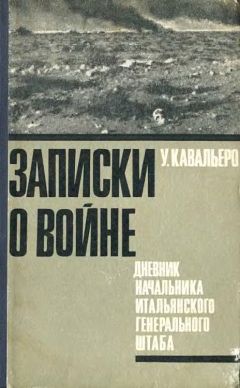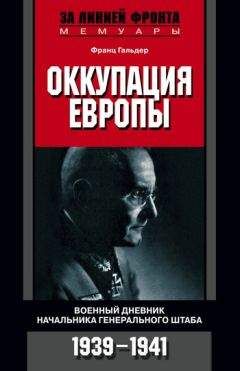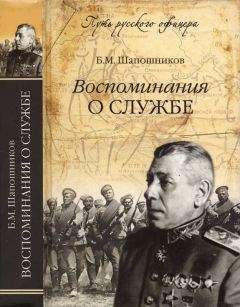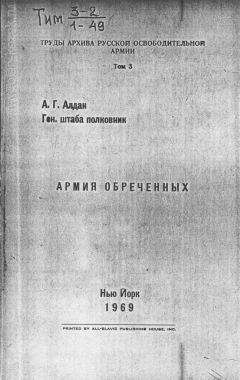Игорь Курукин - Анна Иоанновна
Гвардейские майоры и подполковники участвовали в обсуждении проектов, однако оно не затронуло основную массу их офицеров и солдат. 12 февраля при встрече Анны с батальоном Преображенского полка и кавалергардами гвардейцы «с криками радости» бросились в ноги своей «полковнице», а кавалергарды получили из рук царицы по стакану вина{124}. Эта «агитация» была куда более доходчивой, чем мудрёные политические проекты.
Джеймс Кейт, единственный из мемуаристов, отметил появление Остермана, который, «будучи больным со дня смерти императора, нашёл в себе достаточно сил посетить её (Анну во Всехсвятском. — И.К.), и два дня спустя императрица объявила себя капитаном кавалергардов и полковником первого полка пешей гвардии»{125}. Наблюдательный генерал, возможно, намеренно подчеркнул связь событий, в ходе которых Анна впервые рискнула нарушить принятые ею «кондиции». Ответным ходом правителей был их визит к Анне 14-го числа, во время которого князь Д.М. Голицын в приветственной речи напомнил Анне о взятых ею на себя обязательствах.
Но это были не более чем слова. Полковые документы показывают, что императрица стремилась завоевать симпатии гвардии. Уже 12 февраля она «именным повелением» произвела Преображенского сержанта Григория Обухова в прапорщики и трёх солдат — в капралы. На следующий день капитаны того же полка Александр Лукин и Дремонт Голенищев-Кутузов стали майорами. 16 февраля Анна пожаловала в новые чины целую группу преображенцев, а полкового адъютанта И. Чеботаева — «через линею» (то есть не по старшинству) сразу в капитан-поручики, «дабы на то другие смотря, имели ревность к службе»{126}.
Пятнадцатого февраля, как сообщал газетный репортаж тех дней, Анна «изволила пред полуднем зело преславно, при великих радостных восклицаниях народа в здешней город свой публичный въезд иметь». У крепостных ворот её торжественно встретили депутаты от дворянства, купечества и духовенства, а Феофан произнёс приличествующую случаю речь о том, что подданные получили «к заступлению отечества великодушную героину, искусом разных злоключений не унывшую, но и паче утверждённую. Получили к тихомирию и беспечалию народному владетельницу правосудную и вся оные царём должные свойства, которые царственной псалмопевец в псалме 100 показует, изобильно содержащую».
Анна поклонилась праху предков в Архангельском соборе и проследовала под ружейную пальбу выстроенных в шеренги полков в свои новые «покои» в Кремлёвском дворце. В тот же день все гвардейские солдаты получили от императрицы по рублю; на следующий день началась раздача вина по ротам, а 19 февраля полкам выплатили жалованье. 21 февраля Анна даровала отставку 169 гвардейцам.
Француз Маньян в депеше от 16 февраля писал о непонятно откуда появившемся в те дни «весьма высоком мнении о личных достоинствах» Анны Иоанновны и «великих талантах, признававшихся за ней Петром», благодаря которым «она может оказаться весьма способной взять на себя бремя верховной власти»{127}. Понятно, что списки награждений и производств были подготовлены и поданы полковым начальством, но эти милостивые «повеления» работали на создание у гвардейцев представлений о доброй матушке-государыне. Так буквально из ничего творилось в зимней Москве «общественное мнение». Недалёкая и несчастная Анна, ради политических планов дяди заброшенная в курляндскую глушь (ни о каком признании Петром I её «талантов» и речи быть не могло!), внезапно представала истинной преемницей великого императора.
Да и сами празднества, и лицезрение императрицы — освящённого традицией символа государственного величия — не могли не вызвать подъёма верноподданнических чувств. Даже в другую эпоху, в глазах просвещённого дворянина Андрея Болотова, «ничто не могло сравниться с тем прекрасным зрелищем, которое представилось нам при схождении императрицы (Екатерины II. — И.К.) с Красного крыльца… во всём блеске и сиянии её славы». Рассудительный автор иронизировал по поводу наивных ожиданий провинциальных дворян, которые прогуливались перед лавками с дорогими товарами, «мечтательно надеясь, что товары сии приготовлены для оделения ими всего дворянства», в то время как у императрицы «того и в мыслях не было», однако считал время, проведённое в Кремле под звон колоколов, сопровождавший шествие Екатерины II, самым восхитительным в своей жизни и умилялся возможности созерцать императрицу на Ходынке, где она «провела… время в игрании с несколькими из знаменитейших вельмож в карты» и беспрепятственно допускала к столу всех желающих из «нашей братии»{128}.
Двадцатого февраля в Москве началась присяга Анне Иоанновне. Без каких-либо происшествий она продолжалась неделю и была прекращена только спустя сутки после восстановления самодержавия. В течение 20–26 февраля новой императрице присягнули 50 775 человек разного звания. По нашим подсчётам, можно уверенно говорить о присутствии в Москве более трёх тысяч представителей шляхетства (из них примерно 700–800 человек были вовлечены в политические дебаты). В столицу съехались не затронутые «конституционными» новациями дворяне из ближнего и дальнего Подмосковья, а также офицеры 1-го и 2-го Московских, Воронежского, Бутырского, Вятского, Коломенского армейских полков. В подавляющем большинстве они едва ли были готовы к радикальным политическим изменениям, и для них Анна Иоанновна безусловно оставалась самодержицей{129}.
Прусский посланник Аксель Мардефельд сообщал в Берлин 23 февраля 1730 года: «…народ недоволен многими пунктами формулы присяги, прилагаемой к этой реляции, отчасти оттого, что императрице не даны обыкновенные титулы, отчасти же оттого, что в ней находятся различные неудачные выражения и не объявлено, по чьему приказанию отбирается эта присяга. Между прочим, высказал некий офицер, что он, несмотря на настоящую присягу, готов по приказанию императрицы отсечь на площади головы всем господам Верховного тайного совета». Дипломат достаточно точно спрогнозировал развитие ситуации: «Известия, полученные мною, говорят, что императрица решилась подождать до свершения обряда коронации и потом уже присвоить себе прежнюю власть; весьма умные люди, однако, полагают, что всякое замедление может только вредить делу и императрице следует воспользоваться настоящею нерешительностию верховного правления и добрым расположением остальных сословий»{130}. Кстати, он единственный из дипломатического корпуса за две недели предсказал исход событий: «Если императрица сумеет хорошо войти в своё новое положение и послушается известных умных людей, то она возвратит себе в короткое время полное самодержавие, ибо русская нация, хотя много говорит о свободе, но не знает её и не сумеет воспользоваться ею», — тогда как Вестфален полагал, что «умы успокоились», а Маньян и Рондо были уверены в «добрых последствиях» нового государственного устройства{131}.