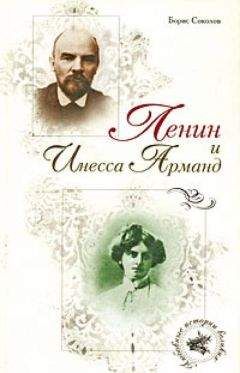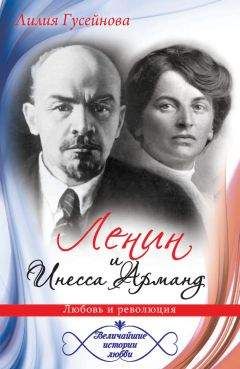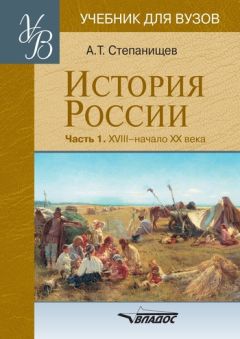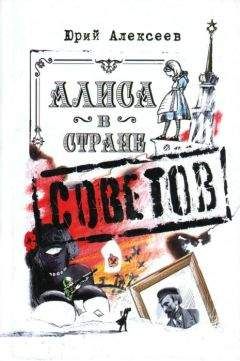Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания
Противники выставили полную команду — 11 игроков. Нас пришло только четверо. Одного мать наказала, у другого нарыв на ноге, третий просто струсил и т. д. Ну, казак назад не пятится. Надо играть или зачтут поражение без боя. Обсудили положение — Тарасовы — в форвардах, я — в защите (обычно-то я играл правого хава), голкипер. Я очень горевал, что у меня не было ни буц, ни даже простых башмаков, я пришёл в высоких сапогах. Но Сима — великий стратег — меня утешил:
— Бегать все равно много не придется. Они будут висеть на наших воротах. Твое дело — коваться. Старайся бить не по мячу, а по ногам, чтобы уменьшить число игроков. Запасных у них нету.
Началась игра. Я защищался героически. Как Леонид в Фермопилах. К концу игры их осталось восемь, трое уползли благодаря тактике, выработанной для меня капитаном. Они, конечно, тоже старались меня подковать, но меня защищали толстые голенища. Тарасовы летали по полю как пули. Кипер то и дело бросался на земь, обычно после того, как мяч пролетал в ворота. Не то, что их кипер, который даже заснул на боевом посту. При всем при том 7:0 не в нашу пользу. Мы считали, что при существующем соотношении сил моральная победа осталась за нами. Мы ушли, еле волоча ноги, но удовлетворенные результатом. Ведь если бы нас было 11, а не 4, то мы бы наверняка на-втыкали 70:0. Это уж будьте спокойны.
Маму не слишком радовало моё увлечение футболом. В принципе она была за спорт, но думала, что футбол уродлив, потому что развивает исключительно ноги и это идет в ущерб голове, умственным способностям. Я горячо с ней спорил и доказывал, что она просто не знает правил игры. Уж кто-кто, а я, правый хав, имел достаточно случаев принимать свечи и иногда даже забивал головой голы. Я даже считался в нашей команде первым специалистом по части приема свечей, иногда с такой высоты принимал, что всякий другой получил бы сотрясение мозга.
— А ты не знаешь, а говоришь, что я головой не работаю!
Но у мамы была предвзятая идея: детям надо давать наряду с другим и эстетическое воспитание. На беду она была знакома с известным педагогом Шацким. А его жена была заведующей музыкальной школой. И меня отдали в эту школу, в хоровую группу. Дело не обошлось без демонстраций протеста, саботажа и даже слёз (вообще-то я реветь уже перестал), но маму невозможно было переспорить.
И вот я под конвоем приведен в это певческое заведение, которое помещалось в кокетливом домике на углу Пречистенского (теперь Гоголевского) бульвара и Гагаринского переулка (теперь ул. Рылеева). Меня, как рядового необученного, поместили в самую младшую группу. Ребята, больше девочки, все были мне по плечо, и я казался им очень смешным. Шацкая села за рояль. Ребята пели превосходно, складно, на два голоса. Я решил придерживаться среднего варианта и взял ноту настолько фальшивую, что даже сам об этом догадался. Ребята засмеялись. Шацкая болезненно поморщилась. Я сконфузился. При третьей моей попытке Шацкая сказала:
— Ты уж лучше помолчи, прислушайся, как поют другие.
С тех пор я прислушивался целых три урока, а потом заявил маме, что хоть режь меня, а я больше в музыкальную школу не пойду. Мама позвонила Шацкой по телефону и после разговора сдалась.
Городское хозяйство было до крайности истощено войной и запущено царскими чиновниками-казнокрадами.
Деятели, поставленные во главе отделов Городской управы, не прибегали к нечестным методам и не желали использовать силу, как орудие власти. Они надеялись воздействовать на массы примером и убеждением.
Очень затрудняло работу двоевластие: не было ясно, за что отвечает Городская дума и за что — Совет рабочих и солдатских депутатов.
Подметая полы в Московском комитете партии, я имел случай наблюдать городского голову Руднева и председателя Думы Осипа Минора, старого народовольца, очень доброго человека, смахивающего на раввина. Мама представила меня им, и они поздоровались со мной за руку.
В те дни наш друг Александр Моисеевич Беркенгейм был брошен на самый трудный участок — председателем продовольственного комитета Московского совета. Он похудел, помрачнел, а большие чёрные мешки под глазами свидетельствовали о бессонных ночах.
Даже я, мальчишка, думал, что такие честные, деликатные люди не смогут управиться с кипящим котлом, который представляла собой Москва тогда.
В то время я был великий охотник до чтения газет. Может показаться странным, что меня в двенадцать лет, наравне с футболом и уличными драками, волновала политика. Но, пожалуй, это естественно. Ведь бывает же нередко, что девушки тайком играют в куклы, пока не выйдут замуж. А на меня сильно влияла среда и разговоры, среди которых я жил. Конечно, я воспринимал события глазами близких, хотя кое-что научился понимать и сам. Я остро чувствовал фальшь и демагогию в отличие от искренности и желания действительно помочь народу.
Но, уклонившись рассуждениями о судьбах России, я нарушил хронологическую последовательность своего повествования. Прошу извинения, возвращаюсь к ходу событий, где я снова буду фигурировать как маленький мальчик, занимающийся своими маленькими делишками.
Дедушка с бабушкой, наконец, признали Тамару. Она была на сносях. Возможно, стариков смягчили грозные события в России, перед лицом которых было неуместно ссориться с единственным сыном.
Однажды, когда я вошел в Трубники, все пили чай в чайной комнате. Тамара, уже попивши, стояла в конце стола у печки и оживленно что-то говорила. Она выставила вперед свой большой живот под бархатным платьем, как бы говоря: «Вот, глядите: я беременна. Я законная жена вашего сына и готовлюсь стать матерью вашего внука, хотя вы не хотели меня знать. Теперь я одержала победу. Но я не злопамятна и потому веду с вами вежливый разговор». Может быть, мне это только казалось, но я нашел её позу неэстетичной и нескромной. А потому на весь вечер надулся.
В тот день в городе начались волнения, издалека доносились выстрелы. Папа забеспокоился и увел Тамару домой. Наступило зловещее молчание, все почему-то говорили шёпотом. Позвонила мама и сказала, чтобы я оставался у бабушки до конца событий и никуда не выходил. Так я провел под домашним арестом дней пять. Мама все время работала в Думе, что-то там обсуждала, выполняла поручения, выходила в разные районы Москвы, пыталась агитировать, примирять и, конечно, подвергалась большой опасности.
А у бабушки все замерло. Знакомые не приходили, телефон выключился. Тетки бродили как тени. Я устал думать о революции, устал беспокоиться за маму. Около бабушки было так уютно, и я предавался мечтам. Я мечтал о колонии. Сейчас под словом «колония» подразумевается преимущественно тюрьма для малолетних преступников, а тогда под ним понимали просто детский дом в сельской местности. Я заболел этой мечтой уже год назад, узнав из какой-то книжки, что такие колонии бывают, кажется, где-то в Швейцарии или Швеции. Там живут ребята на вольном воздухе, лазают по скалам, купаются сколько хотят, занимаются ручным трудом, ну и… учатся. Обязательно надо учиться? Ну, что ж… немножко.