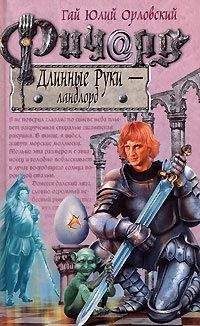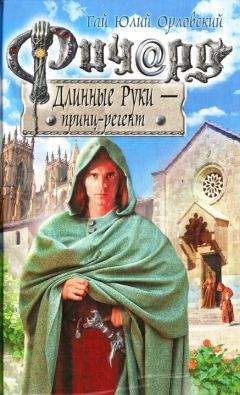Ирвин Уильям - Дарвин и Гексли
— В Шрусбери нет дороги, с которой не связано у меня какое-нибудь тяжелое событие, — отвечал отец.
При всем том он еще бывал бодр и энергичен. Он еще мог выходить из себя. Свежи и нетленны остались в памяти пожилых его детей лютые бури отцовского гнева, хотя с Чарлзом доктор Дарвин за последние годы очень сблизился. Их объединял интерес к людям, общая склонность посудачить. Оба отличались наблюдательностью и мгновенным интуитивным восприятием, исключающим надобность рассудочного анализа. Доктор предрекал будущее старых своих пациентов. Чарлз сообщал последние новости из жизни лондонских научных обществ. Он был куда снисходительней, чем Гексли, к земным слабостям ученых олимпийцев и не без удовольствия рассказывал о страсти Бакленда[52] к шумной известности, о вспыльчивости и резкости Фоконера и безудержном преклонении Мурчисона[53] перед чинами и званиями.
У самого Чарлза дела со здоровьем обстояли так худо, что, вероятно, сидя подле отца в Шрусбери, он не раз гадал, кому из них двоих суждено уйти первым. У доктора Дарвина оставалась одна надежда: что конец наступит сразу. Порой они подолгу сидели молча, и тогда Чарлз делал записи о своих усоногих рачках или читал мадам де Севинье[54], в которую, следуя вместе с братом Эразмом галантному обыкновению ценителей словесности, совершенно влюбился.
В октябре он виделся с отцом в последний раз. Престарелый доктор скончался в ноябре — внезапно, как и желал того. Печальную весть сообщила его дочь Кэтрин. «Пошли тебе бог утешение, Чарлз, голубчик, — писала она, — он тебя так любил». Дочь Чарлза Генриетта, которая была тогда совсем маленькой, вспоминает, как она «очень перепугалась и горько расплакалась» от жалости к отцу. Едва получив эту весть, Чарлз отправился в Шрусбери, но чувствовал себя так скверно, что не принимал участия в похоронах и отказался стать душеприказчиком отца и распорядиться немалым его состоянием.
За эти годы умственный кругозор Дарвина отнюдь не замкнулся в створках раковины усоногого рачка. Рачки, как легко заметить из всего сказанного, явились отчасти подготовкой к изучению гораздо более важной темы, отчасти же, возможно, способом от нее уйти. Темой этой была, конечно же, эволюция.
Никого не удивило бы, если б теорию эволюции изложил Гексли. Почти всех, кто знаком с фактами, несколько удивляет, что это сделал Дарвин, а иные умники, начиная с Сэмюэла Батлера[55] и кончая Жаком Барзеном[56], стараются доказать, что лучше было бы ему этого не делать. У Гексли талантов хватило бы на две жизни. Он мыслил, рисовал, говорил, писал, вдохновлял, возглавлял, вел переговоры и воевал на тысяче фронтов против сил земных и небесных — и все это с небрежной и профессиональной легкостью акробата, который держит на своих плечах сразу десять человек. Он все знал, и все делал, и был для своего времени целым направлением, целой эпохой. Он был, короче говоря, обильно наделен роскошными дарами гения. Дарвин едва располагал самым необходимым. Он медленно читал, особенно на иностранных языках. Не умел рисовать. У него были неловкие, неуклюжие руки, а интерес и доверие к эксперименту подчас сочетались в нем с непостижимой небрежностью и беспомощностью. Он придавал большое значение научным приборам, однако собственные его приборы были чаще всего грубо сработаны и ненадежны. Родные дети озадачили его, доказав, что один из его микрометров отличается от другого. Он был не способен выступить с речью и так боялся показываться на людях, что в 1871 году, когда венчалась его дочь, едва высидел в церкви. «Он любил говорить, — вспоминает она, — что ему не хватает находчивости, чтобы вести с кем бы то ни было споры», а его речь завлекала его в такие непролазные дебри вводных предложений, что он начинал спотыкаться и часто доходил до полной невразумительности и бессвязности. На бумаге он излагал свои мысли достаточно четко и своеобразно, но это удавалось ему лишь после мучительных и долгих исправлений, и, берясь за перо, он шутливо ворчал, что «из всех возможных способов построить фразу непременно изберет самый худший».
Как мог такой человек избежать самой заурядной неудачи и тем более достичь грандиозного успеха? Каким чудом он мог сделать такое первостепенной важности открытие, как принцип естественного отбора, и довести до завершения долгий труд об эволюции живой природы? Пожалуй, отчасти хотя бы, ему удалось дать объяснение эволюции по той милой сердцу англичанина причине, что искать объяснение эволюции было у Дарвинов семейной, традицией. Во всяком случае, — идея в нем созревала точно так, как складываются традиции: медленно, почти неотвратимо. Секрет свершенного им чуда в том, что оно, в конце концов, все-таки свершилось. Он верил фактам. Он видел проблему и чувствовал, что, если есть терпение и жажда истины, эту проблему можно решить.
В 1837 году он начал первую тетрадь записей по изменчивости видов. С той минуты он стал жить идеей — приличный, положительный человек стал жить вопиюще неприличной, ужасающей коварной идеей. А кончилось это тем, что тихий юноша из хорошей семьи, который жертвовал деньги на благотворительность, превратился в полуфанатика, полукрестоносца; что застенчивый, неуверенный в себе молодой человек обрел тайный источник твердости и сознание своей нравственной миссии; что открытая прямая натура, не утратив своего благодушия, обрела некую таинственность.
«Помню, — говорит Гексли, — как во время первой своей беседы с мистером Дарвином я со всею категоричностью молодых лет и неглубоких познаний высказал свою уверенность в том, что природные группы отделены друг от друга четкими разграничительными линиями и что промежуточных форм не существует. Откуда мне было знать в то время, что он уже многие годы размышляет над проблемой видов, и долго потом меня преследовала и дразнила непонятная усмешка, сопровождавшая мягкий его ответ, что у него несколько иной взгляд на вещи».
Сначала Дарвин никого не посвящал в свою тайну, хотя жена не могла ее не знать и, как предсказывал старый доктор Дарвин, трепетала, размышляя о спасении души своего мужа. Очень рано он открылся Ляйеллу, который выслушал его сочувственно, хотя понадобилось двадцать лет, чтобы обратить его в новую веру. В 1844 году с боязливой настороженностью заговорщика Дарвин поведал о своей ереси Джозефу Гукеру, недавно возвратившемуся из антарктической экспедиции на «Эребе».
«Я почти убежден… что виды (это похоже на признание в убийстве) не остаются неизменными. Упаси меня бог от Ламарковых бредней о „тенденции к прогрессивным изменениям“, о „приспособлениях, постепенно порожденных волеизъявлением животных“, и тому подобного!.. Я, кажется, нашел (какова самонадеянность!) простой способ, каким виды тончайшим образом приспосабливаются к тем или иным условиям жизни. Сейчас вы издадите стон и подумаете: „На что же я тратил время, кому писал“. Пять лет тому назад и я на Вашем месте подумал бы так же».