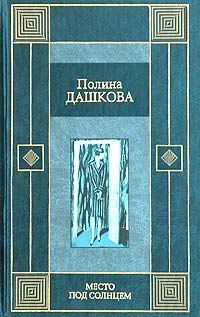Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова
В Крыму юный Набоков в полной мере познал радость сочинительства, «блаженнейшее чувство», когда «пульсирующий туман» вдруг «начинает говорить человеческим голосом»: «Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете».
Однако от писательства его еще отвлекало многое. Крым был населен тогда цветом столичной интеллигенции. Здесь жили художники, композиторы и актеры, здесь ставили спектакли и снимали кино. На горной тропинке юный Набоков, искавший бабочек, наткнулся однажды на знаменитого актера Мозжухина в гриме Хаджи-Мурата. Лошадь понесла поддельного татарина вниз, через заросли, и самые настоящие, некиношные крымские татары поспешили ему на помощь.
В Ялте открылись многочисленные кафе на набережной — веселье накануне катастрофы было особенно буйным. А когда ж веселиться, как не в девятнадцать лет, и где ж, как не в Крыму и не в Ялте! («Разве может быть скучно в Эльдорадо?» — спросила как-то по телефону моя юная жена, когда я пожаловался ей по телефону из Ялты на скуку.)
Набоков принял участие в спектакле — он играл студента Фрица Лобгеймера в «Забаве» Артура Шницлера, драматурга, весьма популярного в ту пору в России. Сорок лет спустя он так рассказывал об этом спектакле в «Пнине»:
«Передние ряды были установлены так близко к сцене, что когда обманутый муж вытаскивал пачку любовных писем, посланных его жене драгуном и студентом Фрицем Лобгеймером и бросал их в лицо этому Фрицу, то можно было со всей отчетливостью видеть, что это старые открытки, у которых даже срезаны уголки с маркой».
Вместе с братом Сергеем он часто бывал на соседской даче Токмаковых в Олеизе («Адреиз» в романе «Подвиг»):
«Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача с нелепыми лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада — уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды… Гостей вообще бывало много — смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты, и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство Лидиной матери… не знало предела».
Я черпаю с такой свободой из «Подвига», потому что Набоков и сам отсылал своего биографа к этому роману за подробностями крымской жизни. Автобиографические детали точнее переданы в ранних его романах (в «Машеньке», «Подвиге» и даже «Даре»), чем в написанных еще через четверть века трех вариантах автобиографии. Английский вариант автобиографии добавляет, впрочем, к списку гостей, приведенному выше, загорелых красавиц с браслетами, одного танцора балета и одного известного художника, горяченогих дев в купальниках, пикники под луной на морском берегу близ фосфоресцирующих волн, добрый запас крымского муската и любовные приключения…
У старшего из братьев завязался флирт с его сверстницей Лидией Токмаковой, он ее поддразнивал, и оба, кажется, не могли забыть о крымской истории Пушкина. Автобиография Набокова утверждает, что много лет спустя Лидия писала в манере мемуаристок пушкинской поры: «Набоков любил черешни, особенно спелые… Он прищуривался, когда глядел на заходящее солнце… Я помню одну ночь, когда, склонившись на муравчатый скат берега, оба мы…» Поскольку и мускат-люнель, и черешни, и муравчатый скат были уже в романе «Подвиг», то тем, кто ищет в автобиографиях «истинную жизнь», трудно будет решить, где истина.
В мае вместе с Белой армией появился в Крыму Юрик Рауш фон Траубенберг. Братья теперь проводили время в веселой Ялте, и Набоков даже собирался записаться добровольцем в один полк со своим любимым кузеном. Нет, не сейчас, конечно, а когда кончатся бабочки. Да и то для того лишь, чтобы добраться вместе с деникинской армией до хутора, где жила теперь Валентина.
В начале июня В.Д. Набоков уехал в Киев, надеясь пробраться оттуда в Петербург. В Киеве вождь кадетов, тонкий политик Милюков, стоявший до сих пор на неистово антигерманской позиции, призвал вдруг поддержать немцев. Крымские кадеты решили сохранять нейтралитет. Лозунги Милюкова уже и в Петербурге стали вызывать сомнения у его соратника В.Д. Набокова. Не сумев пробраться в Петербург, В.Д. Набоков вернулся в Гаспру.
Вскоре он встретил в Ялте Волошина, знакомого ему, как и многие другие литераторы, по работе в Литературном фонде. Набоков представил Волошину сына-поэта. Эта была одна из самых удачных затей гордого отца, ибо знаменитый эрудит и поэт, грузный человек с львиной гривой торчащих во все стороны седых и русых волос, не был ни заносчивым, ни равнодушным. Он был один из добрейших людей в русской поэзии (наподобие «кормилицы русской поэзии» В.А. Жуковского). Некогда он сам явился на дом к юной Марине Цветаевой, прочитав впервые ее стихи. И кого он только не опекал, кто только не живал в его коктебельском доме (который был вовсе не «пансионом», как показалось Б. Войду, а просто-напросто гостеприимной русской дачей). А в ту пору, когда встретились в Ялте старый и молодой поэт, коктебельский Дом поэта был истинным ковчегом, где искали приюта «и красный вождь, и юный офицер, фанатики непримиримых вер». Грянула наконец искупительная революция, которую так долго пророчили Волошин и другие русские интеллигенты, и Волошин считал, что теперь он вместе со всей Россией должен испить до дна эту чашу испытаний. Может, именно оттого этот самый парижский не только из крымских, но и петербургских литераторов не двинулся в эмиграцию вместе со всеми. Чуть позднее Волошин стал свидетелем страшных большевистских расстрелов в Крыму. Потрясенный, он написал об этом цикл стихов и рискнул отправить их в Берлин. Однако в тот ветреный, непогожий августовский вечер, когда два поэта встретились на набережной, в татарской харчевне, они не говорили ни о политике, ни о судьбах России, ни о грядущем Апокалипсисе. Они говорили о стихосложении. Волошин обнаружил, что его юный собрат не знаком с теориями Андрея Белого, и не думаю, чтоб Набокову пришлось много говорить в тот вечер. Говорил эрудит Волошин. Он то декламировал под шум волны, ударявшей в набережную, строки из своего нового стихотворения «Родина» — пример четырехстопного ямба, где первая, вторая и четвертая стопа не имели ударения. То чертил на салфетке метрические схемы Белого, под обаянием которых Набоков потом находился очень долго. Как и сын известного математика странный гений Андрей Бугаев-Белый, молодой Владимир Набоков имел пристрастие к чертежам и схемам, к магии цифр и выкладок, к шахматным и литературным головоломкам. Позднее, в своем вполне автобиографическом «Даре» он вспоминал: