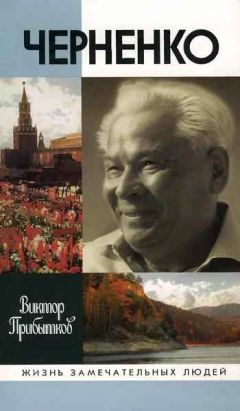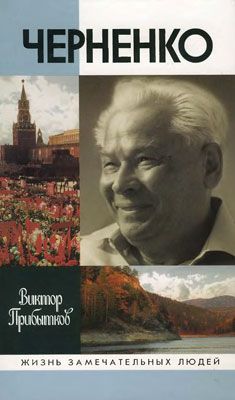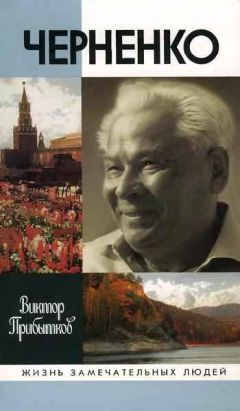Алексей Свирский - История моей жизни
— Тебе это на что?
— Когда немного вырасту, хочу отправиться в девственные леса, где живут индейцы, — отвечаю я, скромно потупившись.
— Вот оно что!.. Ты уже хлебнул Майн-Рида… Ну, так знай: когда «немного» вырастешь, тебя тянуть в Америку не станет.
— Позвольте спросить вас: почему?
— Потому что майнридовский вздор вылетит из твоей головы. Ты будешь знать, что белые давно уже превратили индейцев в рабов, что их уже осталось немного, а «Золотые Браслеты» да «Меткие Стрелы» давно уже не вожди и занимаются тем, что пасут не им принадлежащий скот. А когда ты «немного» поумнеешь и прочтешь «Происхождение видов» Дарвина, а также «Историю цивилизации Англии» Бокля — тогда ты поймешь, что Америка не сказка, а самая мерзкая страна, где кровь человека дешевле воды.
Плохо поняв Менделя, иду за разъяснением к Якову.
— Слушай его больше… Он это нарочно, чтобы свою образованность показать… Кто, по-твоему, больше знает — Майн-Рид, Купер, Густав Эмар или наш Мендель? Ведь если бы это была неправда, кто бы разрешил такие книги печатать?
Яков сразу убеждает меня, и я снова на диком мустанге несусь по золотым степям Мексики или сижу у костра в обществе вождей и с чисто индейским хладнокровием гляжу на белого предателя, привязанного к дереву…
Моя жизнь раздваивается. Действительность едва ощущается мною. Оксана, Станислав и Филипп перестают быть обыкновенными людьми. В зависимости от прочитанной книги они становятся когда индейцами, а когда плантаторами. В моем воображении зима превращается в знойное лето, Ласка — в свирепую тигрицу и директорский сад — в необитаемый остров.
Самым близким другом моим считаю Якова. Он тоже умеет мечтать. В сумерках заберемся с ним в какой-нибудь уголок и уносимся в несуществующий мир.
Ошеломляющее впечатление производит на нас история Робинзона. Яков решительно заявляет, что, как только наступит весна, он отправляется со мной на один из необитаемых островов, где он будет Робинзоном, а я Пятницей. Несколько дней подряд он называет меня Пятницей. Я, конечно, не возражаю, но про себя думаю, что наши роли изменятся, когда прибудем на место. Оно иначе и быть не может. Яков — барчук, нежный парень, а я все умею делать. Умею обед готовить, лучину щипать, гвозди вколачивать, хорошо плаваю… еще вопрос, кто из нас сильнее!..
Хорошо мечтать, когда тебя никто не трогает. Лежишь ли на печи, сидишь ли в каморке Филиппа, уткнувшись в книгу, или бродишь по опустевшим после классов дворам института, — твой путь свободен и широк. Мечты поднимают тебя над миром, и ты живешь среди таких чудес, плывешь по таким морям, достигаешь таких далей, что сердце растворяется в необъемлемой радости, а из глаз исчезает серая безогненная действительность.
— Ты что же нас обманывал? — вдруг слышу я голос Нюренберга в тот момент, когда после неимоверных усилий взбираюсь на вершину отвесной скалы, откуда хочу обозревать новую страну, только что мною открытую.
При первых звуках хорошо знакомого мне голоса я качусь вниз и стою виноватый перед большим добрым человеком, скрашивающим суровый вопрос тихой ласковостью простых черных глаз.
— Ты нам говорил, — продолжает Нюренберг, — что тебе восемь лет, а вот, наконец, прислали из Свенцян твою метрику, и там ясно сказано, что тебе не восемь, а целых одиннадцать лет. Таким образом, ты теперь переросток. В приготовительный тебя не примут. Приходится в первый класс поступить, а ты ни читать, ни писать не умеешь.
— Умею, господин Нюренберг, умею!.. — почти кричу я.
— Что умеешь?
— Читать умею. Я уже сколько книг перечитал.
— Каких книг?
— Майн-Рида, Купера… А скоро начну читать «Происхождение видов» Дарвина и «Историю цивилизации Англии» Бокля.
От удивления мой покровитель даже отступает.
— Когда же ты все это успел? И почему ты от меня прячешься?
— Не прячусь я… Но мне некогда: каждый день к Розенцвейгам хожу… В театре работаю…
— Ты?.. В театре?.. Ничего не понимаю!.. Нет, пойдем-ка в общежитие и расскажи все подробно.
Нюренберг, забыв, что мне одиннадцать лет, берет меня за руку и направляется к белому корпусу, где живут курсанты.
Там он показывает меня Пинюку, Вейсброту и другим товарищам.
Мною заинтересованы. «Редкий экземпляр!» — говорит обо мне Нюренберг.
Этого для меня вполне достаточно, чтобы мои ответы звучали громко и уверенно.
И все, что я уловил за кулисами театра, в доме Розенцвейгов, в прочитанных книгах, я смело бросаю окружившим меня курсантам, слушающим меня с веселым, улыбчивым изумлением.
Кончается тем, что произношу «Дуй, ветер, пока не лопнут щеки» и привожу институтчиков в шумный восторг.
Меня хвалят, ласкают, расспрашивают, а пуще всего удивляются моему чистому говору и полному отсутствию еврейского акцента в моей речи. Мне подают книгу и предлагают прочесть несколько строк.
Медленно, но внятно и без каких-либо запинок прочитываю целую страницу, мне совершенно непонятную, «О методах новейшей педагогики и о психологии ребенка».
— Как видите, — заявляег Нюренберг, — по русскому языку он хоть сейчас может поступить в первый класс… А как ты пишешь? — обращается он ко мне.
Я молчу. Нюренберг повторяет вопрос. В сильном смущении опускаю голову.
— Ты что же молчишь? Писать не умеешь? — настойчиво допытывается мой покровитель.
Я отрицательно качаю головой.
— Как? Совсем писать не умеешь? Даже азбуку?.. Почему же ты не учился писать?
— Учился.
— И что же?
— Не выходит.
— Почему не выходит?
— Я — левша.
— Что?
— Левша я. В правой руке перо не удерживается…
— Пустяки ты говоришь! Научиться всему можно. Была бы охота! Вот что, мой друг, до весны осталось немного. Я сам займусь тобою как следует, и в мае сдашь экзамен…
Доброта этого человека, его ласковый голос переполняют мое сердце такой горячей благодарностью, что в моих глазах появляются слезы, и я взволнованно говорю ему:
— Никогда не забуду вас за это…
Мое волнение немедленно передается Нюренбергу, и он мгновенно вспыхивает и произносит перед товарищами пламенную речь. Он говорит о нищете и забитости еврейского народа, о погибающих детях, о разбойничьем режиме существующего строя и указывает на меня:
— Вот вам один из сотен тысяч… Способный ребенок… Ему одиннадцать лет, а выглядит шестилетним… Почему? Да потому, что мальчик этот рос на свалке нечистот… Да и сейчас валяется на кухне. Наш прямой долг спасти этого мальчугана от неминуемой гибели. Пусть он станет сыном нашего института.