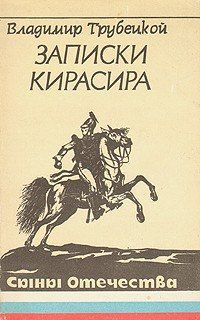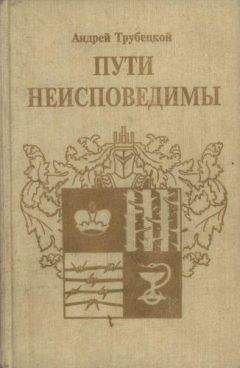Виктор Кравченко - Я избрал свободу
«Все ясно», говорит Косыгин, напряженным голосом, когда маршал кончил. «О каких фонарях вы говорите?»
Полковник, сидящий рядом с маршалом, поднимает примитивный, круглый фонарь, металическую раму со стеклянными оконцами.
«И мы не можем производить этой ерунды?» восклицает Косыгин.
Случайно я знаком со всем этим вопросом. С разрешения Уткина я говорю.
«Разрешите мне об'яснить, Алексей Николаевич. Производство фонарей задерживается, потому что мы не имеем листового металла, штамповальных машин и стекла соответствующего размера и качества. Большой завод листового металла, эвакуированный из Новомосковска, еще не приведен в рабочее состояние. Стекло мы можем получить только из Красноярска. Товарищ Соснин может нам сказать, почему оно не производится».
«Фонари будут сделаны», внезапно кричит Косыгин и стучит по столу. «Я говорю вам, что вся эта преступная инертность должна быть закончена. Если даже мне придется сорвать ленивую кожу со спины негодяев, военные поставки будут поступать, как требует этого товарищ Сталин. Соснин, докладывайте!»
Угрюмый Соснин кажется сломленным. Он говорит безнадежным, монотонным голосом. Машины в Красноярске в плохом состоянии, силовая станция не работает, нет квалифицированной рабочей силы…
Косыгин вызывает Акимова и других. Час за часом длится заседание. Каждый доклад углубляет картину отчаяния. «Узкие места» в отношении материалов, машин, транспортных средств кажутся все более многочисленными — непроходимый лес «узких мест». Косыгин более не говорит, не задает вопросов. Он кричит, приказывает, устанавливает квоты и даты, не спрашивая никого — и все наркомы и генералы виновато ежатся, как группа школьников перед грозным учителем. Мы стараемся не смотреть друг на друга. Мы все знаем, и Косыгин это знает, что недостатки реальны, что ни один из нас не может произвести чуда.
ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
Из моих поездок по заводам Московской области мне особенно запомнилась одна. Только современный Данте в пессимистический момент мог бы отобразить словами картину секретного подземного завода наркомата вооружения, работавшего, главным образом, на рабском труде.
В лесистый район Подольска, глубоко в Московской области допускали только по специальным пропускам. Чины НКВД несколько раз проверяли наши полномочия.
Поезд двигался медленно и мы неоднократно видели из окон большие группы заключенных — при определении этих несчастных не могло быть ошибки — распиливающих и раскалывающих деревья и тащущих их к железной дороге. Наконец, мы остановились в тупике этой ветки и вышли.
На поляне стоял военный завод. В лесах вокруг него, невидимые, с узкими и тщательно замаскированными входами, находились громадные подземные цеха, где тысячи заключенных и вольнонаемных рабочих вырабатывали гранаты, бомбы, мины и другие виды боеприпасов. Вся территория этого подземного мира была окружена рядами колючей проволоки и охранялась вооруженными охранниками НКВД, некоторые из которых имели при себе свирепых собак, специально дрессированных для этой работы.
Я прибыл с одним сотрудником, чтобы уладить конфликт между этим секретным заводом и другим, поставлявшим нам некоторые материалы. После вечернего заседания с руководителями завода, мне дали комнату для ночлега в гостиннице завода. Я рано встал, желая взглянуть на заключенных, отправляющихся на работу. Падал холодный дождь. Вскоре после шести часов, я увидел группу примерно в четыреста мужчин и женщин, по десять в ряд, марширующих под сильной охраной к секретным цехам.
Я видел годами этих несчастных рабов, во всяких условиях. Я не предполагал, что мне выпадет судьба увидеть существа даже еще более трагические, чем те, которых я наблюдал на Урале и в Сибири. Здесь ужас поднялся до сатанинских размеров, эти лица — болезненного желтоватого цвета и окровавленные — были ужасающими смертными масками, это были ходячие трупы, безнадежно отравленные химикалиями, с которыми они работали на этом живом кладбище.
Среди них были мужчины и женщины, которым можно было дать около пятидесяти лет, но были и молодые, в возрасте не более двадцати лет. Они брели в полном молчании, как автоматы, не глядя ни направо ни налево. И они были фантастически одеты. Многие из них были в галошах, привязанных к ногам кусками веревки; другие обернули ноги в тряпье. Некоторые были в крестьянском платье; на некольких женщинах были рваные астраханские платки; здесь и там я заметил остатки хороших заграничных костюмов. Когда мрачное шествие проходило мимо здания, из которого я смотрел, одна женщина вдруг упала. Два охранника оттащили ее; ни один из заключенных не обратил на нее ни малейшего внимания. Они были уже неспособны к выражению симпатии или каких либо человеческих реакций.
Другие подобные контингенты маршировали к подземному аду с других направлений, из колоний НКВД разбросанных по этим лесам, вероятно с расстояния в несколько километров. Вечером я видел колонну, примерно в два раза длинее, тащившуюся по грязи и дождю на ночную смену. Мне не дали разрешения спуститься под землю и у меня не было ни малейшего желания наблюдать это зрелище. Но от чиновников, с которыми я имел дело за эти два дня, я получил достаточно отчетливую картину бедствия и презрения к человеческой жизни. Подземный завод плохо вентилировался, был построен в панической спешке и с полным пренебрежением к здоровью рабочих. Нескольких недель пребывания в этих парах и удушливой вони было достаточно для того, чтобы навсегда отравить человеческий организм. Смертность была высока; человеческие существа подбрасывались в это пекло почти также непрерывно, как и химическое сырье.
Директором предприятия был коммунист с грубым лицом, носивший на своей гимнастерке орден и несколько других отличий. Когда я начал задавать вопросы о здоровьи рабочих, он посмотрел на меня удивленно, как если бы я беспокоился о здоровьи и об удобствах стада мулов.
«К несчастью, среди этих тварей мало квалифицированных рабочих», сказал он, «и у меня с ними много неприятностей. Вы спрашиваете меня, какого рода эти заключенные, политические или уголовники, это меня не интересует; это дело НКВД, который поставляет мне рабочие руки. Все что я знаю, это то, что они враги народа».
В течение месяцев я не мог изгнать из своего сознания эти воспоминания. Они действовали на мои чувства, даже когда мой ум и руки были заняты другими делами. И в последующие годы, когда я находился в другой стране, эти воспоминания охватывали меня, внезапно и жестоко, когда я слышал, как американцы декламировали о советских чудесах. Я не мог удержаться, чтобы не думать: если бы я только мог посадить вас, дураков, на два дня в эту подземную фабрику, только на два дня, вы бы запели другие песни.