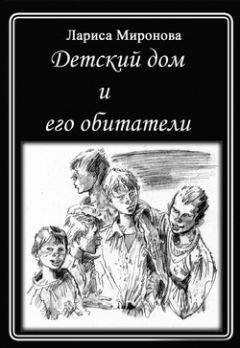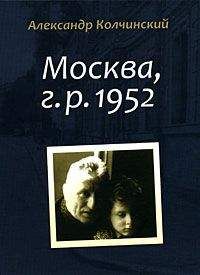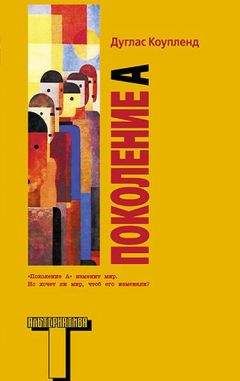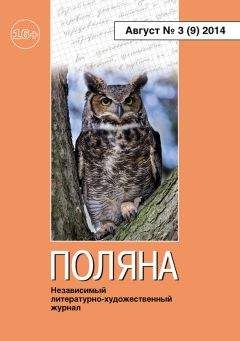Александр Борин - Проскочившее поколение
— Такие вот пироги, — говорит мне Морозов. — Такие, понимаете, пироги…
Заявление в гороно подписали трое: Ольга Филипповна, Федор Игнатьевич и учительница литературы Варвара Сергеевна, когда-то спросившая у Морозова про портрет Некрасова.
Приехала комиссия.
В конце недели председатель ее попросил Виктора Михайловича и Ирину Павловну задержаться вечером для разговора.
Втроем они остались в пустой школе.
Председатель объяснил: «Все глупые, демагогические обвинения мы отметем, конечно. Но есть вещи, по поводу которых очень хотелось бы посоветоваться». Морозов сказал: «Знаю. Я бывал резким, нетерпеливым, иногда непозволительно негибким. Признаю». Председатель помедлил. «Не в этом только дело, Виктор Михайлович, — сказал он. Поискал слова, спросил: — Виктор Михайлович, вам не кажется, что прогрессивной педагогикой нельзя… размахивать будто дубинкой?» — «Не понял», — сказал Морозов. «Ну, нельзя пугать людей на всех перекрестках: берегитесь, мол, меня, я очень прогрессивный». — «А если люди мешают, сопротивляются, вредят, наконец? — вызывающе, повысив голос, спросил Морозов. — Надо им подчиниться, волю дать? Вы слышали, наверное: добро должно быть с кулаками». — «Кулаками не стоит любоваться, даже если и приходится ими иногда пользоваться», — сказал председатель. «Я и не любовался никогда», — возразил Морозов. «Ошибаетесь, Виктор Михайлович, — сказал председатель, — когда на стенах развешивали остроумные плакаты, когда стихи читали… Вы ведь заранее знали, что хорошие стихи дойдут не до всех… Но вы не столько заботились о результате, сколько гордились собой, своей находчивостью и эрудицией… Разве я не прав, Виктор Михайлович?» Морозов не ответил.
Ирина Павловна произнесла горячо: «Виктор Михайлович — талантливый педагог, педагог божьей милостью… Он, безусловно, поймет все свои ошибки и перестроится». Председатель помолчал. «Ирина Павловна, — сказал он, — Виктор Михайлович — не провинившийся ученик, который сейчас нам пообещает: простите, никогда больше не буду… Он зрелый человек, знает, что делает… Ему ведь надо, чтобы комиссия сегодня целиком его поддержала, разгромила всех его противников, чтобы завтра в школу он въехал, так сказать, победителем, на белом коне… Иной вариант его не устроит. Правду я говорю, Виктор Михайлович?» Морозов ответил: «Совершенно верно. Или я должен продолжать свое дело, или оставить его»… Ирина Павловна вздохнула. «Нет, — произнесла она, — на белом коне… никак не получится… Это невозможно…»
Когда председатель ушел, Ирина Павловна попросила Морозова задержаться. Он полагал, она будет сейчас перед ним оправдываться. Поверьте, у него хватило бы силы, выдержки не попрекнуть ее ни единым словом. Но она не оправдывалась. Куда там! Она кричала на него. Морозов никогда не думал, что эта тихая, деликатная женщина способна так кричать. Она кричала: «Да понимаете ли, что вы сделали? Вы позволили победить Федору Игнатьевичу и Ольге Филипповне. Допустили, чтобы глупость и демагогия хоть на час взяли верх. Пожертвовали своими же хорошими педагогическими принципами… Как я могла не вмешаться раньше?..»
Он умолкает.
— И все? — спрашиваю.
— Все, — говорит он. — А что вы еще хотите? Чтобы я, на самом деле, как провинившийся школьник, бил себя в грудь, клялся: никогда больше не буду?.. Несерьезно это.
Молчим.
— Моя совесть чиста, — говорит Морозов. — Я ничего не хотел для себя. Не знал покоя, в школе торчал от зари до зари, не щадил ни сил, ни здоровья… — Он вдруг спрашивает: — Знаете, в том, что здесь произошло, — не вина моя, наверное, а беда. А? Как вы думаете?
Ему очень хочется, чтобы я с ним согласился.
Директором школы назначили Ирину Павловну. Она очень долго отказывалась, сопротивлялась, но в конце концов дала согласие. Мне она сказала: «Нас ожидает чрезвычайно трудная жизнь. Предстоит осуществить педагогические идеи Виктора Михайловича, но только уже иным способом». Я спросил, а что будет с авторами постыдного доноса против Морозова? Эти питекантропы останутся в школе? Она тяжело вздохнула: «А что вы предлагаете? Написать им в трудовой книжке: „Уволен из-за отсутствия чувства юмора“, „склонен к демагогии“? И после этого дела в школе пойдут как по маслу? Не пойдут, увы… С косностью и глупостью нельзя бороться в два счета, административным приказом, бесполезно… Это процесс долгий и очень мучительный…»
Я понимал, отчего, прочитав мой очерк, рассвирепел Сима Соловейчик и почему не одобрил меня Эдик Успенский. Действительно, получалось, что дремучие люди, которым противопоказана профессия учителя, в результате победили: талантливый Морозов из школы ушел, а они, тупые бездари, благополучно продолжали работать. И я с этим вроде бы смирился. Но мне казалось, что никчемность этих тупиц и так за версту видна, о чем тут еще говорить, и так все ясно. А вот когда талантливый, замечательный педагог действует чисто большевистскими, разрушительными методами, желая созидать, наоборот, крушит — это уже требовало серьезного разговора.
Эдик передал мне книжку, сочиненную человеком, которого я назвал Морозовым. В ней он вывел меня, тоже под другой фамилией, рассказал, как я продался начальству и по их указке написал свой гнусный очерк. Но иначе, вероятно, он и не мог отнестись ко мне, он держался за свою правду и готов был всячески, любым способом ее отстаивать. Что ж, я его понимал.
А с Симой Соловейчиком у нас состоялся очень долгий разговор о нетерпимости и большевизме, выяснилось, что мы тут полные единомышленники, и наши добрые, очень дружеские, теплые отношения сохранились до самой его безвременной кончины.
Читательское письмо
В начале семидесятых в редакцию «Литературной газеты» пришло любопытное читательское письмо. Его автор спрашивал, можно ли подписаться на одну лишь вторую «тетрадку», а первую не получать вовсе, она ему не нужна. Письмо это нас позабавило, однако в нем содержался глубокий смысл. Дело в том, что на первых восьми полосах, составлявших как раз первую «тетрадку», печатались чаще всего верноподданнические идеологические статьи, громились диссиденты и им сочувствующие, выводились на чистую воду акулы империализма. Конечно, и там порой удавалось напечатать честную критическую статью или опубликовать настоящую поэзию, но каждый раз это требовало почти героических усилий журналистов из первой «тетрадки» — Геннадия Красухина, некоторых других моих коллег. Нам, работающим во второй «тетрадке», жилось несравненно легче. Хоть и мы нередко оказывались бессильны пробить цензурную стену, хоть печальная судьба постигла не только мои очерки о взрыве на Минском радиозаводе и о пожаре в гостинице «Россия», многие другие неугодные начальству материалы точно так же шли в корзину, — на восьми полосах второй «тетрадки», отданных разделу «внутренняя жизнь» и «Клубу 12 стульев», практически в каждом номере можно было прочесть смелый по тем временам правовой очерк Евгения Богата или Аркадия Ваксберга, содержательный аналитический материал Павла Волина или Александра Левикова, фельетон Владлена Бахнова или Леонида Лиходеева.