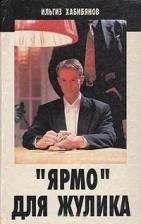Тамара Сверчкова - Скальпель и автомат
У меня в палатке остались три танкиста из разных экипажей. Одеты они в серые сожженные, в больших обгоревших дырах комбинезоны. Тела почти все обгорелые, забинтованы с толстым слоем ваты. За ночь все промокает и приходится подбинтовывать несколько раз. Отметка врага Субботиной Л. на эвакуацию есть. Свистящее дыхание и редкие стоны из-под кучи бинтов, забинтованные руки, как куклы мягкие сложены на груди. Положив пальцы на коричневые пятна бинтов, чувствую сильные толчки сердца, оно как птица рвется из груди. «Сестрица, погрузите в машину, все равно смерть, обгорел весь, кожи совсем нет, одна кровь. Может быть, доедем?» — огромная ватная рука легла на мою руку. Из отверстия среди бинтов на лице хрипло вырывается горячее дыхание, края бинтов окрашиваются розовыми кругами. Они ширятся, как живые, пропитывая марлю. Мне очень жалко танкистов. Вчера богатыри, смелые, рвущиеся вперед, защищая своей броней солдат пехоты, подбадривая, они врывались в гущи врагов, давили и били технику. А сегодня они лежат беспомощные и умоляют отправить на лечение.
Скоро рассветет, и должен прилететь маленький самолет, который берет двоих-четверых раненых. Тихо. На рассвете сон приходит ко всем. На нарах лежат три танкиста. Как снеговики, покрытые прожженными лохмотьями. Подхожу, слушаю хриплое дыхание — все живы. У одного из-под марли красные вывернутые веки с гнойными заплывами, в глазах мольба: «Сестрица! Мы честно воевали и от врагов не бежали. Я принят в партию. Помоги, отправь в тыл», — шепчет он неразборчиво. Я низко наклонилась — слушаю и думаю.
Губы сожжены, корки кровавые лопаются и проступают кровавые каналы. Смотрю на него, и становится тоскливо и больно на душе. И еще мысли о том, что они обречены. И только быстрота эвакуации может кого-то из них спасти. Тыловой госпиталь может дать открытое лечение, пересадку кожи, переливание крови. Сейчас эти раненые еще сильны, но с каждой минутой состояние ухудшается. Что делать? Медсанбат уехал, спросить не у кого.
Вот послышалось тарахтенье. Все яснее… яснее. Замолкло. Это приземлился У-2. Летчик вошел в палатку — молоденький осоавиахимовец, во всем новом, начищенный и сияющий. Оглядел нары, солому, белых забинтованных кукол-танкистов:
— Возьмем! В крылья самолета, быстрей!
И опять умоляющие, неразборчивые слова из бинтов: «Последняя просьба! Уважьте нас всех! Во имя жизни!»
Сзади стоят два санитара из легкораненых, они тоже очень хотят помочь танкистам — каждый из нас мог лежать вот так… Что же делать? Палатка вздрогнула, начинался новый день. Артподготовка решила вопрос.
— Укол! Готовьте быстро!
Милые мои! Если хоть один погибнет в самолете, будет мне большая неприятность, а может быть, и трибунал! Танкистов уложили на носилки. Быстрее! Быстрее!
Летчик взял карточки: «Долетят?» С носилок, с трудом приподняв голову, чтобы видеть его, торопливо, непослушными губами: «Долетим, голуба, на жажде к жизни долетим! На ненависти! Еще не сполна рассчитались… Вернемся опять!»
Летчик покачал головой — не так скоро вас подлатают, так и война может кончиться.
Носилки подняли. Я держу правую сторону. Санитар ранен в руку.
На небе веером занималась заря, прохладный утренний ветерок освежал. Стало радостно, надежда пришла неожиданно.
Затарахтел винт. Ветер от винта поднял пыль. Маленькой птичкой взмыл самолет. «До свиданья, дорогие! Только будьте живы!» Где-то гудит то громче, то тише, вздрагивает земля. Тяжело на душе и не напрасно. Позже, когда меня вызвали и допросили с пристрастием, измотав и опустошив, я узнала, что всех троих танкистов выгрузили мертвыми. И осталась я жива только благодаря тому, что осоавиахимовец написал объяснительную, что все равно взять было некого и летел порожняком…
Начинается новый день. На попутных машинах добираюсь до медсанбата. В полуразрушенном домике у дряхлой старушки приютилась с доктором Субботиной. Осенняя распутица. Октябрь 1942 года.
Простуда доняла всех — и здоровых и раненых. Чирьи и карбункулы, в основном на шее, донимают солдат. Разрезы, мази, примочки плохо помогают. Бойцы отстают от своих частей, температурят, а бои идут, наступление то там, то тут. А вот и моя шея занемела, и под косой вскочил чирий — не мал не велик, а головой вертеть не велит. Воротник шинели сырой, трет и беспокоит. Старушка, сморщенная и желтая, пожалела меня. Говорит, что это пустяки и резать не надо. «Смотри и слушай! Вот так, этой рукой, вот этим пальцем, вокруг чирья веди, сделай вот так и так, а за мной повторяй слова, да запоминай». Пальцем дотянулась до чирья, повторяю слова, не все понимая в них, три раза повторяю за бабушкой. Конечно, ничему не верю. Но больно шею, неудобно к раненому нагнуться. А если надо приподнять раненого, а он за шею обопрется, так в голове от боли все помутится и закричишь.
Легли спать в промозглой избушке. Шея горит и знобит меня, никак не согреться. Наконец пригрелась, уснула, а утром чуть забрезжило, умылась и скорее к раненым. О чирье и забыла. Не беспокоит, и ладно. До вечера работала с ранеными. А вечером пришла в избушку, а старушка и спрашивает: «Как касатка, чирий?» «Да я о нем совсем забыла!» Потрогала, а он уже подсох.
— Бабушка! Повтори стихи о чирьях!
Она рассмеялась, мелкие морщинки разбежались у глаз. Лицо помолодело:
— Запоминай! Попробуй на бойце, где чирий только начинается. Сколько вылечил этот стих бойцов! На второй день подсыхал чирий. А карбункул таял на третий день. Доктор сначала смеялась, потом ругала, а потом посылала бойцов ко мне и удивлялась, как и я.
Только раненых отэвакуировали, началась бомбежка. Самолеты фашистов долбили разбитую деревеньку, догорали, дымя, обломки.
У старушки несколько кур и петух в погреб спрятаны. Осколком петуху ногу перебило. Бабуля в слезы, просила врачей, фельдшера, еще кого-то перевязать ногу петуху, но все смеялись: в суп его! И никто не помог, все устали, с ног валятся.
Вечереет. Пришла в избушку, а бабуля ко мне: «Помоги, а то все смеются. А уйдут проклятые фашисты, мои курочки цыплят выведут, и пойдет мирная жизнь с моих маленьких цыплят. Петух должен жить!»
— Бабуль, а фашиста мы скоро прогоним?
— Скоро не скоро, а прогоните!
— Неси своего петуха, да зажги светильник.
Из сумки достала кусочек бинта, чуть гипса насыпала, воды приготовила, палочку построгала. Внесла бабушка петуха. Хорош, разноцветные перья хвоста блестят. Выпрямила ногу, подогнала палочку, пригипсовала.
— Держите, бабушка, пока гипс схватится.
Петух спросонья не сопротивлялся. Я легла на лавку, вспомнила мою родную бабушку, тетю, маму, братьев. Как-то они там? И уснула. А бабушка до утра сидела с петухом, а как начало рассветать, он и закукарекал.