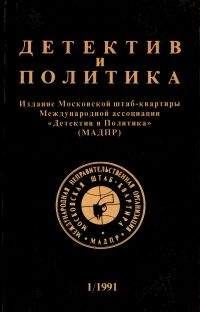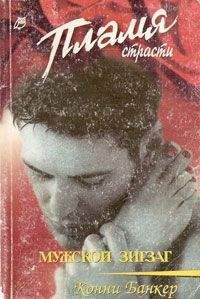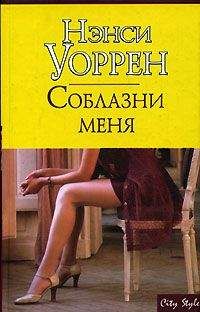Антонелла Чиленто - Неаполь чудный мой
С того момента, как мы попадаем во чрево рынка огромного города, границы которого, состоящие из прилавков, палаток, бочек и ящиков, теряются где-то на соседних перекрестках и улицах, – так Неаполь самовоспроизводится в миниатюре внутри себя, Неаполь в Фуоригротте словно русская матрешка, – нас преследует крик: “ананасаазаевра”, то есть “ананас за евро” (ананас на неаполитанском диалекте женского рода – ананаса).
Ряды прилавков, на которых громоздятся книги для школьников, пиратские и оригинальные компакт-диски, анчоусы, артишоки, фенхель, капуста (за полтора евро кочан), моющие средства и дезодоранты, юбки, статуэтки в африканском стиле, апельсины, тыквы, креветки, морские гребешки, тянутся по обе стороны улицы до самого горизонта.
Кажется, будто это не городская улица, а тропа где-то на американском Дальнем Западе: на заднем плане – холм, огромные многоэтажки улицы Караваджо устремили свои одинокие вершины в небо, и рынок, тысячей щупалец протянувшийся в окрестные парки, а рядом – бежевые кирпичные дома, сушки для белья на балконах и кампанские пинии несут свою вахту.
– Одевайте своих деток в итальянские вещи! Все по четыре евро!
“Итальянские вещи” оказываются детскими халатами, крошечными, зелеными и желтыми, их продают на вес, женщины уносят их с собой в руках вместе с кофточками и майками. Среди этой длинной процессии медленно, не прибегая к звуковому сигналу, прокладывает себе путь трехколесное транспортное средство с мотором, некое подобие мотоцикла с коляской, доверху набитой сложенными пластиковыми пакетами, готовыми к продаже. Человек, управляющий этой машиной, стар и одет в теплую куртку и стеганую шапку, эдакий китаец-сибиряк, словно вышедший из фильмов Кустурицы.
Женщины расступаются, сибиряк не произносит ни слова, не хвалит свой товар: он и так хорошо расходится, а продавцу остается лишь медленно колесить по проезжей части рынка.
А внутри звучат другие голоса, и запахи становятся более резкими: сырой лук, рыба. Здесь стоят контейнеры со всевозможными замороженными продуктами, здесь царство рыбных палочек и рисовых зраз с начинкой, называемых “апельсинчики”. На прилавке с фруктами – многочисленные плакаты, в том числе следующий лаконичный и четкий: “Богатые тоже плачут, думая о бедных”.
Крики, доносящиеся изнутри, слышны снаружи:
– Сюда, сюда! Смотрите, какие рыбные палочки! [66] – А звуки отдаются от бетонных потолков, грубых, неровных.
Из музыкальных ларьков доносится голос Пино Даниэле, маринованные перцы глазеют на покупателей из синих пластиковых тазиков.
В самых узких местах, между прилавками, – скопление детских прогулочных колясок, впрочем, и детей, которых мамаши в спортивных куртках, черных водолазках, с бордовой помадой на губах, тащат за собой, тоже полно. В результате образуются сложные транспортные развязки: когда здесь встречаются две коляски, это все равно что нос к носу съезжаются два автобуса на узкой улице, – малыши таким способом приобщаются к городскому дорожному движению в миниатюре.
Я выхожу в поисках окраины рынка.
Бреду среди домов, раздается телефонный звонок: коллега звонит из Милана, он проводит исследование, посвященное “городу в группе риска”, и спрашивает меня – в последнее время это случается все чаще и чаще, – что я в связи с этим могу сказать о Неаполе. На какое-то мгновение перед глазами у меня возникает картина: сотовые и стационарные телефоны нескольких десятков человек, живущих в Неаполе и работающих в нем, олицетворяющих его, начинают одновременно звонить: как там дела в Неаполе, как дела? Я говорю коллеге: мол, созвонимся, когда я буду дома, нажимаю “сброс” и оглядываюсь. Как дела в Неаполе?
Сегодняшний Неаполь для меня – это Фуоригротта (так я должна была бы ответить), это булочные-пекарни с круглыми булками в витринах, заставленных всякой всячиной, это зеленоглазая девушка, которая улыбается мне и сторонится, проходя мимо груды рыночного мусора, это пропитанный солнцем воздух, проникающий сквозь верхние этажи домов, выходящих окнами на парк, где все телевизоры настроены на канал RAI-1: все смотрят, какое блюдо будут готовить сегодня в кулинарной программе. А еще – это синьора с двумя маленькими жемчужинками в ушах, в черном платье-джерси, обтягивающем брюшко, которая, выходя с рынка, говорит мальчику лет шестнадцати:
– Тебе скоро позвонят с работы, вот увидишь, стольким молодым звонят…
Она произносит это без улыбки и даже сама не верит в то, что сказала, а под мышкой у нее чудеснейший пучок латука, и она намеревается пойти поболтать с кумушкой, которая машет ей рукой из окна первого этажа.
В Фуоригротте, среди таких вот синьор и кумушек, во владениях Китаянки заканчивается Неаполь, заканчивается путь земли, и вопросы тоже заканчиваются, растворяясь в воздухе, улетая к небу.
5 In luce et in aere [67]
В воскресенье утром город предстает таким, каким ему следует быть всегда, – очищенным, благодаря небу и ветру.
Неаполитанцы спят. Утром в выходные город залит солнцем, даже зимой.
Это вертикальный город, город, поднимающийся вверх, идущий с высоко поднятой головой. Нет больше области мрака, уголков и закоулков, где таится тьма. Белым, голубым, зеленым, даже как будто цветущим – таким предстает перед нами Неаполь, в наряде, который ему не принадлежит. Он предстает обманным, сотканным из природы, где отсутствуют животные, за исключением воздушных: чаек, голубок, пчел в теплое время года, немногочисленных осенних мух. И тогда незачем подниматься к Сан-Мартино, откуда город видится таким круглый год, даже в грозу, даже когда умираешь, даже когда ненавидишь или когда тоскуешь в окружающем шуме.
Неаполитанские воскресенья – прежде чем начнется пустой ритуал рожков с мороженым, аперитивов, обедов, автомобильных пробок на дорогах к городскому парку и к Позиллипо (все ради того, чтоб отвоевать себе квадратный метр у моря, создать иллюзию маленьких каникул), – полны призраков, бредущих под солнцем.
Призраков из менее суматошных времен, ну или просто из более ранних. Они показываются, пока мы наблюдаем, как работает посудомоечная машина, подглядываем за играми кошек и за тем, как они дремлют, или смотрим на заспавшихся мужей, на закрытые ставни, на болтающиеся на балконах халаты, на белье, висящее на веревках, накануне отодвинутое в угол из-за дождя.
По улице проплывают облачка пыли, золотистые вихри, крестьянки, идущие в поле, телега, груженная морскими котами, лисица, овца, мужчина с корзиной морских карасей – он наловил их ночью.
Они исчезают, как только в них врезается “Чао” или “Ямаха” [68] или когда сталкиваются с аптекаршей: она сегодня дежурная, отодвигает жалюзи при помощи пульта. Единственный, кто спокойно с ними сосуществует, хотя и притворяется, что это не так, – это Пеппино, который каждое утро открывает свой газетный киоск на перекрестке улицы Караваджо, у него полагается узнавать новости – о себе, о мире, о печатных знаках, рассказывающих жизнь нашего города со страниц газет.