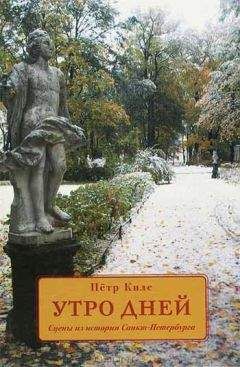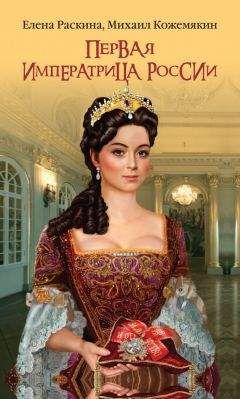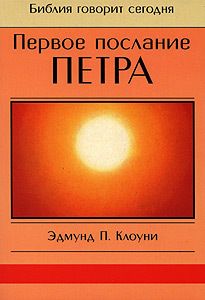Владислав Шпильман - Пианист
И на этот раз мне удалось избежать гибели. Но надолго ли?
11 «ЭЙ, СТРЕЛКИ, ВПЕРЕД!..»
И опять я сменил место ночлега. В который уже раз — с тех пор, как мы жили на Слизкой и началась война. На этот раз меня поселили в помещении, которое скорее напоминало камеру: в нем были нары и только самые необходимые предметы обихода. Здесь же обитала семья Пружанских из трех человек и молчаливая госпожа А., которая, живя вместе с нами, вела совершенно обособленную жизнь.
В первую же ночь приснился сон, который навсегда лишил меня всяких иллюзий. Я воспринял его как окончательное подтверждение своих подозрений относительно судьбы родных. Приснился мне брат Генрик. Он подошел и, склонившись над моими нарами, сказал:
— Нас уже нет в живых.
В шесть утра нас разбудили громкие голоса и поспешные шаги в коридоре. Группа «привилегированных» рабочих, занятых на реконструкции особняка шефа варшавского СС, отправлялась в Уяздовские Аллеи. Их привилегии состояли в том, что перед выходом они получали миску мясного супа, который давал ощущение сытости на несколько часов. Вскоре после них отправлялись и мы, всегда на голодный желудок — похлебка, которую нам давали, была такой же пустой, как и наша работа. Мы должны были убирать мусор на дворе перед зданием еврейской администрации.
На другой день меня и Пружанского вместе с его несовершеннолетним сыном послали на работу в дом, где размещались склады, принадлежавшие администрации общины, а также квартиры ее сотрудников. Было два часа дня, когда раздался знакомый звук свистка и характерные крики немцев, сгонявших всех вниз, во двор. Мы замерли в тревоге. Ведь не прошло и двух дней, как нам выдали номерки на жизнь. Их получили все в этом доме, значит, это не могло быть облавой. Так что же?
Мы поспешили вниз: и все же это была селекция! И снова нас охватило отчаяние, снова орали эти из СС, бесновались, сортируя — кого налево, кого направо, разделяя семьи, лая и убивая людей. Нашу бригаду за немногими исключениями оставили в живых. Среди этих исключений оказался сын Пружанского, хороший мальчик, с которым я подружился и уже успел к нему сердечно привязаться, хотя мы жили вместе всего два дня. Не буду описывать отчаяние его отца — в таком же отчаянии в эти месяцы находились тысячи отцов и матерей в гетто. Характерно другое: семьи важных лиц из еврейской администрации с ходу выкупали себя у «неподкупных» гестаповцев. Вместо них, так, чтобы общее количество сохранялось, гнали на Umschlagplatz и везли оттуда на смерть столяров, официантов, кельнеров, парикмахеров и иных специалистов, в ком немцы действительно нуждались. Позже юному Пружанскому удалось бежать с Umschlagplatz и продлить свою жизнь еще на какое-то время.
Однажды меня вызвал бригадир и сказал, что сумел включить меня в группу, которую переводят в отдаленный район — Мокотов — на стройку казарм СС. Там больше паек, и вообще там будет лучше. В действительности все оказалось иначе. Нашей новой бригаде приходилось вставать на два часа раньше, чтобы пройдя через весь город пешком больше десяти километров, явиться на стройку вовремя. После такого перехода, усталые, мы должны были немедленно приступать к работе, которая была мне не по силам. Мне приказали носить наверх кирпичи, уложенные на доску, которую я клал на спину. В перерывах я таскал ведра с известью и железные балки. Может быть, я и смог бы справиться с этой работой, если бы не надзиратели из СС — будущие жители этих казарм, которым казалось, что мы работаем слишком медленно. Они приказали нам носить сложенные в штабеля кирпичи и железные балки бегом, а если кто-то от слабости останавливался, его били нагайками с оловянными шариками на концах.
Не знаю, на сколько бы меня хватило при такой тяжелой физической нагрузке, если бы я не сумел умолить бригадира перевести меня на строительство особняка гауптфюрера СС на Уяздовских Аллеях. Там, действительно, условия были более сносными, и можно было как-то продержаться. Это объяснялось главным образом тем, что мы работали вместе с немецкими мастерами и польскими специалистами, среди которых были даже вольнонаемные. Евреи не были выделены в отдельную бригаду, поэтому не так бросались в глаза и могли как-то проволынить с работой. В этом нам помогали поляки, которые были настроены против немецких надсмотрщиков. Фактически стройкой руководил еврей — инженер Блюм, и это было нам на руку. У него был свой коллектив, состоявший из инженеров высочайшего класса, тоже евреев. Официально немцы их не признавали и, числившийся начальником строительства мастер Шультке, типичный немец-садист, мог преспокойно избивать инженеров, как только вздумается. Но без специалистов-евреев дело не двигалось. Поэтому к нам относились сравнительно терпимо, если не считать битья, что было в то время в порядке вещей.
Я работал подсобником у каменщика Бартчака, поляка, человека по сути своей порядочного. Понятно, между нами не могли не возникать ссоры. Бывали моменты, когда немцы стояли у нас над душой и нужно было работать добросовестно. Тогда я старался изо всех сил, но что могло из этого получиться? Я переворачивал лестницы, разливал известь или ронял со строительных лесов кирпичи, за что на нас с Бартчаком сыпалась брань, и он страшно злился на меня. Наливаясь краской, он что-то бормотал себе под нос, ожидая момента, когда немцы отойдут. Тогда, сбив шапку на затылок и уперев руки в боки, он начинал свою речь, качая при этом головой от презрения к моей неспособности постичь ремесло каменщика.
— И как же ты играл там в этом радио, Шпильман? — дивился он. — На концерте музыканта, который даже известь не может собрать лопатой с доски, все небось засыпали.
Пожав плечами, он бросал в мою сторону подозрительный взгляд, сплевывал и рявкал на меня напоследок, чтобы еще раз разрядить свое бешенство:
— Растяпа!
Но когда я, забыв, где нахожусь, погружался в свои мысли и переставал работать, он всегда успевал вовремя предупредить, что приближается кто-то из немецких надсмотрщиков.
— Раствор! — кричал он так, что было слышно на всю площадь, а я бросался к первому попавшемуся ведру или мастерку, изображая трудовое рвение.
Больше всего меня тогда волновала перспектива приближающейся зимы. У меня не было теплой одежды и, конечно, перчаток. Я всегда плохо переносил холод; стоило мне отморозить руки, да еще на такой тяжелой физической работе, и на профессии пианиста можно ставить крест. С растущим беспокойством я наблюдал, как желтеют листья на Уяздовских Аллеях, а порывы ветра день ото дня становятся холоднее.
Тогда же наши временные «номерки на жизнь» поменяли на постоянные. Кроме того, меня переселили в другое место гетто — на улицу Пыльную. И со стройки, что велась на Аллеях в «арийской» части города, нас перевели на другой объект. Там дело подходило к концу и уже не требовалось столько рабочих рук. С каждым днем температура опускалась ниже, и все чаще во время работы у меня немели пальцы от холода. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не случай — не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды, неся известь, я споткнулся и вывихнул себе лодыжку. Для работы на стройке я стал непригоден. Тогда инженер Блюм отправил меня работать на склад. Был конец ноября — последний срок, чтобы спасти руки. В помещениях склада наверняка было теплее, чем под открытым небом.