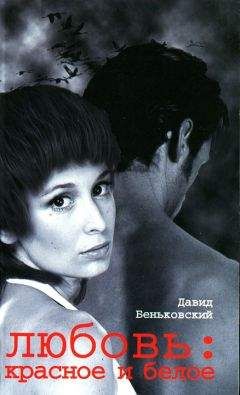Давид Самойлов - Перебирая наши даты
В первые годы шульгинского житья я не рисковал появляться на «том краю», а как подрос, стал ходить в Ромашкинский лес по ягоды и по орехи.
Лет в тринадцать я бегал туда каждый день, чтобы встретить круглолицую Машу Мещанинову. Маша, чуть завидит меня, бывало, спешит убежать из дому, но чаще всего мать окликает и велит заняться делом. А дел у Маши, видно, много было, потому редко удавалось нам видеться.
В радостные часы встречи мы с ней забирались в чащу, собирали ягоды. Она говорила редко, словно речь ей давалась с трудом. Только подставляла сомкнутые губы, когда я ее целовал.
Ребятишки приметили наше общение. Машу стали дразнить мною, и она уже не выходила в лес, когда я проходил мимо ее дома.
История одной семьи — это очень много. Не просто отдельный человек, а именно человек в семейном окружении, то есть в самом малом дроблении среды, и есть истинная плоть истории, овеществление процесса. Не зря мы с таким увлечением читаем семейные романы, которые всегда романы исторические, и слушаем семейные повествования, большая часть которых пропадает и забывается.
Семейные хроники для истинного историка — материал не менее ценный, чем статистические данные, хронологические детали, мемуары политиков и тайные документы. Для исторического же писателя истории семей — главный материал, в котором запечатлена история в ее объемном, то есть художественном виде.
В периоды, когда история умышленно фальсифицируется и подгоняется под схемы, неизбежно растет интерес к мемуаристике. В этом сказывается потребность людей в подлинной истории, в подлинном осмыслении процесса.
Я — человек московский, городской. И если как‑то ощущаю историю нашей деревни, то только через несколько семейных историй, к которым близко прикасался в детстве и позже, во время войны. В частности, это история семьи Мещаниновых из подмосковной деревни Шульгино.
Где‑то на пороге нашего века Сергей Мещанинов женился на Аксинье Ивановне, лет которой тогда было не более двадцати.
Сергей был бедняк и, видимо, как и все в Шульгино, московский извозчик.
Вскоре пошли дети. Старшему Василию в ту пору, когда мы поселились на даче у Мещаниновых, было лет двадцать шесть. За ним шла Лиза, года на три моложе, потом Саша, за ним красавица Мария и дальше — болезненный Петр, крепкий Алексей, Полина, старше меня года на три, и младшие — лет шести Митька и совсем еще маленькая Лелька.
Такое количество живых детей застали мы в середине 20–х годов, когда переехали впервые из города на дачу в Шульгино.
По всем расчетам Аксинье Ивановне в ту пору не было еще пятидесяти, а скорее лет сорок пять. Но глядела она старухой, а может быть, и считала себя таковой, потому и одевалась по — старушечьи. Особенно портило Аксинью Ивановну отсутствие передних зубов. Она, наверное, и смолоду не отличалась красотой, и дочери Елизавета и Полина пошли в нее, но в лице ее, востроносом и узком, были черты ума и энергии, скрашенные добротой и сентиментальностью.
Именно она, а не Сергей, которого не слышал, чтобы так звали, домашние — тятя или отец, а чужие — Аксиньин, именно она и оказалась стержнем семьи и, впрягшись в трудную крестьянскую работу, сквозь революции и войны выволакивала свое многочисленное потомство из бедняцкой нищеты к середняцкой относительной сытости.
Можно себе представить, что Аксиньины были до революции из самых бедных. Но Аксинья Ивановна подняла старших детей и с ними в нэповскую пору поставила новый дом — пятистенку, новый двор, купила сельскохозяйственные орудия, завела приличный скот и выбилась к среднему хозяйствованию.
Мещаниновым хватало уже своего хлеба и картошки. А деньги получали они от продажи молока в Москве.
Зимой молоко нам два раза в неделю привозила Аксинья Ивановна.
Надо сказать, что относительная сытость стоила Мещаниновым огромного физического труда, в котором участвовали все дети, кроме двух младших.
Теперь уже, конечно, никто так не работает от зари до зари, как работали русские крестьяне еще сорок лет назад.
У меня нет охоты идеализировать старый крестьянский труд. Но это был труд «личный», оттого и содержал элемент поэзии, как всякая «личная» деятельность. Личное — личностное. Единоличник — единство личности и труда.
Наши почвенники, поганые баре, считают это утратой исконных начал. Но, как во всем, их понимание основано на барском и каком‑то гнусном, кривом идеализме. В сущности, на официальном идеализме, но повернутом вспять, хотя ничем и не лучшем.
В основе обоих пониманий труда — официального и почвеннического — лежит идея труда — героизма или труда — удовольствия. Идея людей, к черному труду непричастных.
Можно сколько угодно говорить о труде — удовольствии, но тогда почему же вся Россия от этого труда разбежалась?
Говорят — разбежались от колхозов, от великого перелома. Нет!
Великий перелом, индустриализация открыли путь в город. А колхозы дали возможность отлынивать от тяжелого труда, от всей трудовой крестьянской поэзии.
Какой же это идеализм, если на себя работали от зари до зари, а для общества работать не пожелали, а если работали, то из‑под палки. И работать снова стали, как только вновь позволено стало «на себя».
Именно в том‑то и смысл нашего времени, что поняли — работать на общество, то есть быть идеалистом, никто в деревне не хочет и не станет. Что работников улещать надо, платить им надо, не то Россия с голоду сдохнет[14].
После коллективизации начала распадаться большая работящая семья Мещаниновых.
Наконец‑то от тяжких для него уз удалось освободиться старшему Василию. Он ушел примаком к богатой некрасивой невесте. Вскоре переехал в Москву. Основательно подорвав здоровье непосильным трудом в юные годы, он умер перед войной.
Лиза вышла замуж в соседние Раздоры за рабочего подмосковного завода. И, кажется, удачно.
За человека много старше ее в Одинцово вышла тихая красавица Маша. Ее постигла послеродовая горячка. И я видел ее, похудевшую и подурневшую, с остановившимся взглядом, когда они с мужем приезжали навестить Шульгино.
На завод поступил Саша, вскоре женился на деловитой толстенькой Сане и еще до войны произвел многочисленное потомство, заселявшее постепенно пустеющий дом Мещаниновых.
Слабый здоровьем Петр поступил в техникум. Учиться ему было трудно. Занятия проходили вечерами, возвращаться в Шульгино было поздно. И он зимой ночевал у нас в передней. Социальные амбиции моей матери не могли допустить его хотя бы в мою комнату, где был лишний диван.
Алексей был призван в армию.