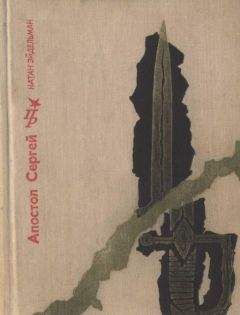Натан Эйдельман - Лунин
Ценитель фрунта, Константин был высокого мнения о службе Лунина и его образцовом эскадроне.[58] Не раз, конечно, было говорено, что следует наверстать упущенное по службе; если бы не проказы и семилетняя отставка — давно был бы Лунин генералом (как Волконский или Чернышев). Даже троюродный братец Артамон Муравьев — уже полковник…
Может быть, libertad, «истинное честолюбие», подавлено, и он уже готов, как Чаадаев, допускать существование счастья в «единообразии повседневных привычек»?
3. «Отправлено родным и в погашение долгов 21 297 рублей 64 и 1/2 копейки…
Выдано жалований и пенсий по положению Михаила Сергеевича — 3293 рубля 89 с половиной копеек.
Отдано в опекунский совет 10 262 рубля 40 копеек.
Михаил Сергеевич взял себе лично 10 000 рублей.
Сестре Екатерине Сергеевне Уваровой дано 2000 рублей.
На отправку лошади Михаилу Сергеевичу в Слуцк — 500 рублей.
Почтовые и другие расходы 2535 рублей 24 1/2 копейки…
Пожертвовано по нашему судебному делу секретарю и приказным казенной палаты 85 рублей, для присутствующих — сахару, чаю и кофею 23 рубля 81 копейка, ренских вин 51 рубль 60 копеек: без сей политической мази будут скрипеть колеса. Сами вы изволите знать, что у нас все основано на выгодах, на неправосудии…
За купленных двух мальчиков у господина Гурьева заплачено 800 рублей…»
Так отчитывается перед барином Луниным управляющий его тамбовскими и саратовскими имениями Евдоким Федорович Суслин.
Мирные заботы: «политическая мазь», мальчики за 800 рублей, в 1823 году — неурожай, 24-й — «очень хорош», 25-й — «так себе…».
Постепенно долги, оставшиеся после покойного батюшки, погашаются, и Суслин поэтически извещает: «Плывущий ваш корабль при помощи божьей достигает своей цели и близок желаемого пристанища, а потому кормчий утешает себя, так как имеет в виду берег и несколько страшится волн и подводных камней…» Барин из Варшавы напоминает, что «и у берега потонуть можно», а для порядку замечает, что в последнем финансовом отчете Суслина не хватает полушки. Однако отношения слуги и господина, кажется, вполне доверительные, так как управляющий ворчит, что в дробях не силен, а «гусарские правила не все годятся для местных жителей».
И снова — о горохе, гречке, мельницах, оброке, пенсиях, двадцати лунинских мужиках, отправленных в столицу обучаться клавикордному, поваренному, фельдшерскому, бронзовому, портняжному делу (впрочем, в тех, кто возвращается, управляющий находит «избалованность», а кое-кто «не выдерживает»: печник Иван Федоров вдруг «вернулся из Петербурга пешком и в самом худом рубище»).
«Заботливым душевладельцем» назвал Сергиевского барина историк Б. Д. Греков, изучавший его бумаги по имению.
Правда, сокровенная цель — освободить фамильную вотчину от долгов (и от возможного перехода к другому владельцу!) к весне 1825 года достигнута; правда, крестьяне на барина и приказчика вроде бы не жалуются; правда, завещание предусматривает их освобождение…[59]
Но не безнравственно ли свободному человеку пользоваться трудом тысячи душ? И отчего бы тому, кто не боится лишений и зарабатывал в Париже перепискою прошений, не отпустить всех крепостных сразу?
Положим, безнравственное в одну эпоху не ощущается безнравственным в другую: Аристотель и Вергилий жили за счет рабов и, кажется, не очень тосковали… Но Лунин и его друзья, если б взяли власть, первым указом отменили бы крепостное право. Сам-то Лунин хорошо понимал противоречие своих идей и положения, но разумного и быстрого выхода не видел. Отпустить крестьян на волю так, как хочет, не сумел бы (имелись определенные законы, предусматривающие, как переводить крепостных в вольные хлебопашцы). К тому же совсем не ясно, что крестьянину лучше: жить за хорошим барином или выйти в вольные, то есть попасть в объятия государственных чиновников. Ведь не зря либеральный адмирал Мордвинов однажды проголосовал против закона, запрещавшего продавать отдельно членов крестьянских семей. «На редьке не вырастет ананас», — объявил он и объяснил, что при существующем порядке, может статься, крепостному сыну даже выгодней расстаться с крепостным отцом, от которого исходит второе тиранство.
Дон-Кихот, отказываясь от имения и доходов, должен иметь на этот случай ясный план новой жизни: уйти из армии? Поступить в статскую или частную службу, то есть пополнить число несвободных?
Кто знает, какие планы зреют в голове гусарского подполковника, пока он водит свой эскадрон по дорогам Польши, и чего он ждет; неожиданных событий в стране, которые разом разрешат противоречия, или внутреннего откровения, после которого последуют совершенно неожиданные поступки (уход в монастырь, поездка за океан).
От него можно было ожидать чего угодно и даже вдруг совсем прозаического:
Мой идеал теперь хозяйка,
Мои желания — покой…
Николай Александрович Лунин 7 августа 1824 года наставляет кузена Михаила: «Береги себя. Теперь едва только наступает то время, и по службе, и по домашним делам, чтобы тебе жить приятно. Женись, если найдешь достойную себя — и я с сердечной радостью приеду на свадьбу».[60]
4. 15 лет спустя Лунин запишет:
«Помню наше последнее свидание в галерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На ней черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка — освободителя Вены.
Ее девственный взор, блуждая вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галереи молча! Нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы завидели Вислу: ее желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без видимой причины резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и скрылась…»
«Она» — это Наталья Потоцкая, внучка министра, родственница последнего польского короля.
Ее роман с русским офицером мог начаться во время его службы в Варшаве, то есть в 1824–1825 годах. Потоцкой было семнадцать лет, Лунину тридцать семь…[61]
Мы не знаем, что прервало их отношения.