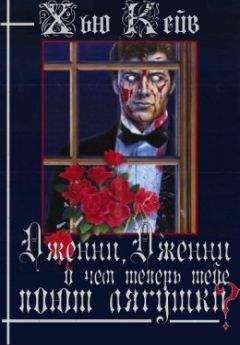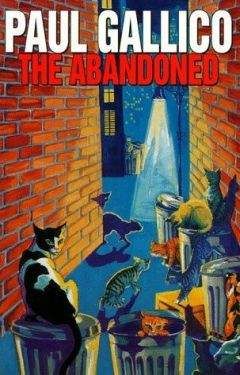Нина Берберова - Курсив мой
Ощущение уюта и тепла в доме. Мы отрезаны от вьюги, метущей вокруг дома, двойными рамами, толстыми стенами, крыльцом-тамбуром, лестницей, тремя дверьми. Раскаленная печь дышит на нас жаром. Мы обе - малиновые от него, березовые дрова стреляют во все стороны, день клонится к концу, а когда уймется метель, выйдут огромные плоские финские звезды. С утра по высоченным сугробам вокруг дома носится ветер и термометр стоит так низко, что его ртуть невозможно рассмотреть. Финские синие снежные дали с уснувшими в них дачами и елками, тишина и небо. Багровым квадратом падал в лиловый снег свет из окна кухни. Скрипели лыжи, мы неслись домой в сумерках, между деревьями. Тонкий дымок вился из трубы. Мы неслись на этот багровый квадрат, мы неслись на этот синий дымок, мы неслись во весь дух в лунный вечер, в холодное пространство, взрывая летучий, серебряный снег.
Валерий Брюсов приезжал в Петербург в 1916 году на чествование, которое ему было устроено армянами Петербурга по случаю выхода "Поэзии Армении", огромного тома переводов старых и новых армянских поэтов. Мой отец был в комитете чествования. В день торжества, в Тенишевском училище, был вечер Брюсова (14 мая), он читал свои переводы. У него был необыкновенный взгляд очень острых, каких-то колючих глаз, он как будто уколол меня на всю жизнь своим взглядом в тот вечер. Я совершенно не помню ни голоса его, ни манеры чтения. Главное в нем было его лицо, его надо было смотреть, не слушать. И в этом лице главным были глаза. И я смотрела в его лицо, а когда отводила свой взгляд, то встречалась взглядом с тем, кто смотрел на меня из второго ряда: Осей А. Начиналось ли между нами что-то похожее на любовь? Думаю, что начиналось. Нам хотелось быть вместе, и нам обоим хотелось трогать друг друга. Но все это оборвалось событиями: не потому, что подошел февраль 1917 года и для любви не оказалось времени, но потому, что во всероссийском обвале все, что было до февраля, вдруг показалось детским, заношенным до дыр, использованным и отступило, когда все вокруг нас полетело в бездну вниз головой.
Я принадлежу к тем людям, для которых дом, в котором они родились и выросли, не только не стал символом защиты, прелести и прочности жизни, но разрушение которого принесло огромную радость. Ни "отеческих гробов", ни "родного пепелища" у меня нет, чтобы опереться на них в трудные минуты; родства по крови я никогда не признавала, и так как природа не дала мне ни панциря буйвола, ни когтей, ни зубов пантеры и так как я не искала способа, как нарастить себе двойную кожу и как отточить зубы, то я и живу - без опоры, без оружия, без тренировки для защиты и нападения, без собственного племени, родной земли, политической партии, без прадедовских богов и гробов. Самое трудное для подобных мне - это то, что силы, с которыми мы боремся, еще не сформулированы: мы боремся с еще не принявшими твердых форм врагами, явлениями, не успевшими еще перейти в ту стадию, где дискурсивная терминология и ясные выводы дали бы возможность схватиться с ними на почве новых критериев. Мы, двуногие позвоночные, потеряв защиту (по остроумному слову Олдоса Хаксли) "газообразного позвоночного" и - собственно - потеряв вес, что имел человек прошлых веков, остались наедине с самими собой.
Как я сказала в начале этой книги, вопроса о смысле жизни отдельно от самой жизни для меня нет. Жизнь для меня и была, и есть переполнена значением. Бытие есть единственная реальность, ничего не лежит за ней. Мы ничего не отражаем, мы никуда не прорываемся, мы - здесь и только здесь, и только сейчас что-то значит. Расшифровать смысл реальности (внутри меня и вовне), найти нити, связующие отдельные стороны этого смысла друг с другом и с целым, всегда казалось мне необходимостью. Таким образом, сама жизнь становилась своим смыслом, не в абстракции, но в моем собственном конкретном взаимоотношении с моим временем, которое для меня состоит из пяти-шести мировых событий и пяти-шести мировых имен. Каждый день приносил мне что-то, что я была в состоянии взять с собой в ночь, открывая в мире что-либо схожее с тем, что было у меня внутри, иногда объясняя мне меня, но чаще раскрывая мне мой собственный факт в соответствии с фактом мира. Моей задачей с годами стало: совлечь с себя по возможности все хаотические черты, угомонить анархию, расчистить путаницу и двойственность, которые, если их не унять, разрушат человека. Я вижу жизнь не в пространстве вообще, а в определенной географической точке, не во времени, а в истории. Не среди подобных или ближних, но среди выбранных или даже избранных, и потому приноровление к миру и людям есть для меня радость, потому что в нем есть элементы внутреннего порядка и развития. В положенных рамках рождения и смерти (единственно детерминированных) я ощущаю полностью и свободу воли, и свободу выбора, той внутренней воли, которая во столько же раз важнее и больше обстоятельств, во сколько раз разумный человек сильнее щепки, плывущей в волнах. Я знала очень рано, что с разумом не рождаются, что "разум свой мы постоянно сами создаем", по слову Чаадаева. И я училась, как умела, создавать его, училась и учусь до сих пор, и все мне мало, потому что, только познавая, человек живет в связи с вечностью, в координации с событиями и именами. Так, я стою перед картиной Рембрандта "Аристотель, созерцающий бюст Гомера" и чувствую цепь (схожую с той цепью, что надета на груди центральной фигуры), крепко держащую Гомера, Аристотеля, Рембрандта и меня, стоящую перед картиной. Словно сеть артерий и вен несет кровь от одного, через другого, к третьему и наконец - в мои собственные жилы. Мы все стоим в одном ряду, который нерушим, если я сама не нарушу его. Но я не нарушу его потому, что удар тепла дается мне этой кровью, бегущей через меня, которой я жива, и открывает мне двери и к суждениям, и к импульсу воображения, а они в свою очередь дают возможность сделать своей всю сложную систему символов и мифов, которыми жило человечество с того первого дня, когда поклонилось солнцу. С тех пор проделан путь огромный - от огнепоклонников к Фебу-Аполлону и через Христа к тому, что мы понимаем под словами "цивилизация - это тепло".
И я часто мысленно говорю людям:
- Дайте мне камень. А уж я сама сумею сделать из него хлеб. Не беспокойтесь обо мне. Я хлеба не прошу. Только протяните мне вон тот булыжник, уж я знаю, что мне с ним делать.
Я сейчас смотрю на годы моего детства без малейшей "дымки грусти", без меланхолической слезы о "навеки утраченном". Все мое прошлое со мной, в любой час моей жизни. Вся прелесть его для меня в том, что оно дало жизнь моему настоящему. Так же, как когда-то, я иногда сажусь перед окном и теперь и смотрю на улицу, огни и крыши, или на деревья и облака, или на черту горизонта. И так же слушаю, как кровь бежит по моим жилам и как все биения и шумы во мне соответствуют ритмам в мире. И я сознаю, что я живу, что живу живая, что добивалась в жизни не счастья, а интенсивности чувства электрического, живого тепла. Сознаю, что корни всех поздних раздумий - в моих ранних годах, корни всех поздних страстей - в детских бессонницах. Что все, что мною разгадано теперь, было загадано тогда. Что судьба моя была (и есть): развитие и рост, как всякая судьба живого. Что ничего не отошло, но, наоборот, присутствует и преображается вместе со мной. И что все, что построено на основе прошлого, находится в полном соответствии с этой основой. И в этой мысли - мое назначение, мое значение, мой рок и мой урок.