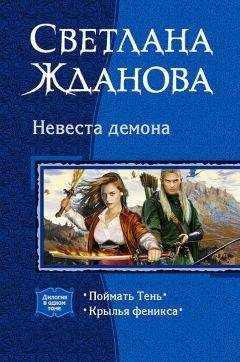Елена Коренева - Идиотка
Подобные речи укрепляли меня в желании предстать «гением чистой красоты», приблизиться к образу нимфетки, столь полюбившемуся Кончаловскому (хотя ею я уже не могла быть ни по возрасту, ни по факту.) Теряя килограммы веса и «сбивая грудь», я культивировала в себе бестелесную Музу, сублимируя в эстетических и духовных поисках свою женскую неудовлетворенность. Потому, возможно, в течение полутора лет я не осмеливалась перейти с ним на «ты»: мое «вы» в обращении к мужчине, с которым я спала в одной постели, гарантировало нерушимость любовной фантазии. «Что-то фрейдистское!» — скажет догадливый интеллектуал о нашей связи. И в этом тоже заключалась щемящая сердце истина. Кончаловский действительно относился ко мне, как будто я была его дочерью, его ребенком. Хотя у него был сын Егор от брака с Натальей Аринбасаровой и дочка Саша от брака с Вивиан, свои отцовские чувства, как будто впервые, он испытал во взаимоотношениях со мной, своей героиней. Или, как говорят в таких случаях — любовницей.
Страх перед старением, уже тогда существовавший в Кончаловском как идея-фикс, был причиной его тяги к женщинам намного моложе, что само по себе определяло характер любовных отношений. По странной иронии обстоятельств и для меня этот род любви казался единственно приемлемым. После травмы, пережитой в конце отношений со своим первым мужчиной, мне нужна была сложная конструкция кинематографа с его мифотворчеством для возвышения чувств земных до уровня идеальных, «небесных». Как часто в ту пору, встречая в метро или на улице целующуюся парочку, я отворачивалась в испуге и отвращении, не веря, что плотское желание — так я определяла то, что соединяло мужчин и женщин, — может обойтись без насилия и неизбежного после него отторжения.
Сама природа словно подыгрывала продиктованному мной замыслу превратиться в подростка — у меня нарушился женский физиологический цикл. Такое случается на войне и у спортсменок: от нервного стресса в первом случае и от физических перегрузок — во втором. («Ленка, что с тобой?» — недоуменно вопрошала моя сестра. И я задумчиво отвечала: «Воюю, наверное…») Мой жизненный курс лежал в направлении, противоположном браку и семье: актриса — это нечто среднее между ангелом и грешницей. И природа ответила на вызов, лишний раз подтвердив: что загадаешь, то и будет. Вот сиди и разгадывай потом: а то ли ты загадала? Тем нелепее было узнавать о распущенной сплетне, что я беременна, выслушивать упреки, что я околдовала чужого мужа, и подозрения в брачной корысти. Не без грусти воспринимала я подобные разговоры, но и не без ощущения силы, которую знает человек, стоящий между мужчинами и женщинами, несущий крест своей отверженности, — то ли андрогин, то ли кастрат, святой или мученик, а может, все в одном. Чужая душа — потемки, а своя и подавно. Что соединяет двоих, знают только они сами, а порой лишь догадываются. И тем не менее, глядя на вновь образовавшуюся пару, мы говорим: роман, связь, любовь, похоть… — и все. Еще мы говорим: снимается кино — и это нам многое объясняет.
Окружение киногруппы «Романса о влюбленных», включая актеров Женю Киндинова и Сашу Збруева, относилось к нашему роману благосклонно. Как часто бывает в подобных ситуациях, они пытались рассмотреть черты уникальности в женщине, которая стала избранницей режиссера, и любили меня отраженной любовью. Но женщины «с характером» относились к мужской ветрености строже. Начались съемки в павильоне. Мне предстояло работать в паре с Ией Саввиной, исполнявшей роль матери. Снималась сцена, когда Таня приходит домой со свидания и моется под душем. Еще в гримерной Ия Сергеевна, не заметив моего присутствия, разразилась красочным монологом в адрес режиссера и его «потаскушек», наградив и меня звонким словцом, которым в простонародье называют мелких тварей, прижившихся на солдатском теле.
О том, что характер Ии Сергеевны совсем не соответствует ее божественной внешности, я была предупреждена заранее. «Ия незаменимый друг в беде, но если ты счастлив…» — напутствовал Кончаловский. Уже в павильоне, стоя в ванной между дублями, едва прикрытая полотенцем от глаз посторонних, я услышала комментарий знаменитой партнерши: «Кончаловский, меня в Голливуд сниматься не зови, не пойду, я на это не способна!» Сцена с обнаженной натурой была воспринята как цитата из американского кинематографа, чуждая русской душе и традиции целомудрия. Короче, досталось и режиссеру и мне, как лучшей его ученице, от кроткой и робкой «дамы с собачкой». Что уж говорить о том, в какой «традиции» воспринимались наши отношения за кадром. Разврат, да и только…
(PS: Встретив прошлым летом Ию Сергеевну на панихиде по Олегу Николаевичу Ефремову, я обратила внимание, как мы, в сущности, с ней похожи. Маленькая, вся мокрая от слез и страданий, она вызвалась проводить меня по мхатовским катакомбам в нужную мне комнату. «Мама с дочкой», — подумала я, испытав неловкость за наши слишком крохотные габариты, льнущие к массивным перилам лестницы. Теперь мне были понятны и ее боль, и тот счет, что она предъявляла к жизни. Что уж говорить — к мужчинам…)
Глава 19. Детище — мираж
Мое участие в картине подходило к концу. Зимой 1973-го снимались павильонные сцены. Наиболее трудной оказалась встреча Тани с Сергеем, ее разговор с ним о том, что она замужем, а «та, другая — умерла». Мы долго маялись, примериваясь, как играть самую изощренную в психологическом отношении ситуацию. Кончаловский отсылал меня на задворки павильона, требуя, чтобы я вошла в нужное состояние. Я садилась в темных декорациях, старалась вообразить себя несчастнейшей из женщин, но «состояние» не шло… «Чего от меня хотят? Ну и что ж, что я „другая, жена другого, а та умерла“, я ничего не чувствую особенного, хочу есть и спать!» — бормотала я себе под нос и в ужасе думала, что играть все-таки придется.
Меня звали на площадку репетировать, затем снова отсылали «в угол» — сосредоточиться. Кончаловскому все не нравилось, и ласковый голос сменялся металлическими нотами — он пытался хоть как-то пробудить во мне свежие эмоции. Затем неожиданная шутка: «Ребята, мы тут страдаем, а ведь зритель купит билет за рубль и обнимет девушку на заднем ряду… Для него это отдых в выходной день. Так давайте просто получать удовольствие, играть!» Снимать пришлось в два захода, не из-за брака пленки, а из-за решения сцены, которое не сразу далось режиссеру. На чем поставить акцент: на счастье, что Сергей выжил, или на драматическом известии, что любовь невозможна? Как должны встречаться двое любящих, один из которых считался мертвым?
Если идти по линии открытой трагедии, то люди проявляют себя в крайностях: падают в обморок, находятся в состоянии шока… Но чаще всего реакция наступает позднее, через осознание случившегося постфактум. Как все и всегда — позднее или просто поздно. Внешне человек продолжает совершать будничный ритуал: «Здравствуй, это я!» — «Это ты?» — «Это я! А это ты, а это мы с тобой!» Повседневная суетность служит спасительным буфером, в противном случае человека разрывает, как бомбу. А возможно, в сегодняшнем мире трудно поверить в то, что потеря любви — это трагедия. Да и вообще, если каждый день — трагедия, то к ней привыкаешь. (Один знакомый в Нью-Йорке восклицал: «Ну что Анна Каренина?! Да тут каждый день бросаешься под поезд!!!»)