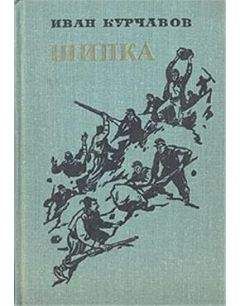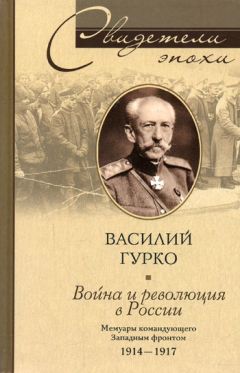Виктор Петелин - Жизнь Шаляпина. Триумф
– Знаю я Коровина, что ты расписываешь его… Но вот кто может ему помочь?
– Он указывает на Луначарского «или кого нужно», как пишет.
– В Луначарском много лирического и бестолкового, я писал об этом его качестве, а он, чудак, обиделся, но как же было не обругать его, если он в качестве союзника приветствовал Ясинского, писателя скверной репутации… Да и вообще, готов любому броситься на шею, лишь бы тот заявил о своей готовности сотрудничать с революцией.
– Так вроде бы у вас наладились отношения после этого? Или я ошибаюсь?.. – недоуменно спросил Шаляпин.
– Нет, не ошибаешься, Луначарский много раз бывал у меня на Капри, талантливый человек, этого у него не отнимешь, но как вождь революции уж слишком верит в свою непогрешимость, как и другие приспешники Ленина, между тем почти совершенно прекращено книгопечатание и книгоиздательство, уничтожаются ценнейшие библиотеки, до астрономических цен повышаются полиграфические услуги… А Луначарский выступит на каком-нибудь митинге, побратается после этого с каким-нибудь новым Ясинским – и доволен… Ну как же – сплотил лучшую часть интеллигенции с народом. Значит, делает самое нужное и священное дело… Может, он действительно работает по двадцать часов в сутки и с большим напряжением сил, но много в его работе и бестолковщины, и ненужного лирического краснобайства… Но делать нечего, о Коровине придется с ним поговорить. Он у меня в ближайшее время будет, ты тоже приходи, вот вместе и поговорим… Я извещу тебя, когда он у меня будет…
– Надо что-то сделать, Алексей… Коровин много работает… Боже, как надоела политика. Идет война. Коровин ругает интриги войны, которые мешают ему работать, сетует, что поезда не идут, а сам он в это время воссоздает на полотне сумерки: окно, цветы, фигуры и соловей в саду… Это он называет – искать в живописи иллюзию и поэзию, пытаясь уйти от внешнего мастерства… Изумительные краски у него, прекрасный художник, одним словом, Божьей милостью. Вообще жизнь очень тяжелая, но я не унываю и, в сущности, не обвиняю никого. Революция – революция и есть! Конечно, есть масса невежества, но идеи мне кажутся светлыми и прекрасными, вот если б их осуществляли хорошим, здоровым способом…
– Да я разве не одобряю светлые и прекрасные идеи? И с Лениным у меня всегда были превосходные отношения, но мне кажется, что ему почти неинтересно индивидуально-человеческое, он думает только о партиях, массах, государствах, и здесь он обладает даром предвидения. Один француз спросил меня: «Не находите ли вы, что Ленин – гильотина, которая мыслит?» Работу его мысли я сравнил бы с ударами молота, который, обладая зрением, сокрушительно дробит именно то, что давно пора уничтожить, но под этот молот много попадает и здоровых элементов, которые вполне могли бы развиваться и в новом государстве… Мещанам всех стран Ленин должен казаться Аттилой, пришедшим разрушить Рим мещанского благополучия и уюта, основанный на рабстве, крови и грабеже. Ленин совершает ошибки, но его ошибки – это не преступления. Это ошибки честного человека, и в мире еще не было ни одного реформатора, который действовал бы безошибочно. Но под его гильотину попадают и хорошие люди, которым надо, конечно, помогать. Уж слишком много негодяев примазалось к революционному движению…
– Пожалуй, Алексей Максимович, ты прав, и все человечество когда-нибудь действительно будет жить прекрасной жизнью. Дай Бог! При всех нелепостях, которые сейчас творятся, я все-таки отдаю должное большевикам. У них есть какая-то живая сила и масса энергии. Если бы массы были более облагорожены, то дело пошло бы, конечно, и лучше и целесообразнее. Беда, что интеллигентное правительство задавило совсем душу народа, и теперь, конечно, пожинается то, что посеяно за несколько сотен лет…
«А Федор действительно читает мои «Несвоевременные мысли», не раз я высказывал нечто подобное», – мелькнуло у Горького.
– Ты, Федор, не огорчайся тому, что происходит, памятуя, что каждый получает то, что заслужил. Это справедливо. Народ, загнивший в духоте монархии, бездеятельный и безвольный, лишенный веры в себя, недостаточно «буржуазный», чтобы быть сильным в сопротивлении, и недостаточно сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко усвоенное стремление к буржуазному благополучию, – этот народ, по логике бездарной истории своей, очевидно, должен пережить все драмы и трагедии, обязательные для существа пассивного и живущего в эпоху зверски развитой борьбы классов… А главное, Федор, береги свое здоровье… Вот видишь меня… Сколько уж дней не выхожу, валяюсь… А сколько дел застряло из-за меня.
– Бог милостив, Алексей, ты действительно прав: главное в жизни человека – это здоровье… Ни дома, ни золото, ни бриллианты не стоят ровно ничего в сравнении со здоровьем, только здоровье и стоит беречь. Я, по крайней мере, так и делаю. Одно, конечно, беспокоит меня – это дети. Им нужно учиться, а учиться теперь очень трудно, но надо употребить все силы к тому, чтобы они во что бы то ни стало все же учились…
Беседа прерывалась не раз, приходили к Горькому со срочными просьбами, бывали и люди, которые враждебно к нему относились в мирное время… Ничего не поделаешь, приходится порой просить, чтобы спасти родного человека. Жалко, что захворал, нужный он и хороший человек… Слава Богу, что он приободрился, полон планами, начал работать по изданию книг и вообще литературы вместе с советской властью. Сколько народу после его просьбы сейчас освобождают из тюрем. И как просто он разговаривает с людьми, которые были раньше его врагами, а он так сердечно к ним ко всем относится. Это очень хорошо и приятно видеть… «А как в Москве милая Иолочка и мои чудные ребята, моя шаляпинская ребятня… Как насчет продовольствия… В Москве сейчас так же плохо, как и здесь, в Питере, а может быть, даже еще и хуже».
– Что призадумался, Федор? Аль сети порвались, – бодро сказал Горький, незаметно для Шаляпина вошедший после очередной беседы с просителем. – О Москве, скорей всего…
– Действительно, о детишках скучаю, так тяжело жить на две семьи, просто больно, все время думаю о них… И думаю об Иолочке, обидел я ее страшно, никак забыть не могу… Все приглашают поехать петь в Швецию, в Норвегию, в Данию и особенно в Германию, но мне отчего-то не хочется никуда двигаться. С семьей проехать страшно затруднительно, а одному противно – как можно сейчас уезжать куда-нибудь далеко… Нет! Уж лучше останусь здесь.
Попрощались, договорившись о скорой встрече с Луначарским..
В тот же день Горький написал Луначарскому:
«Анатолий Васильевич.
Имею необходимость беседовать с Вами по делам «Свободной ассоциации» и «Союза деятелей искусства».