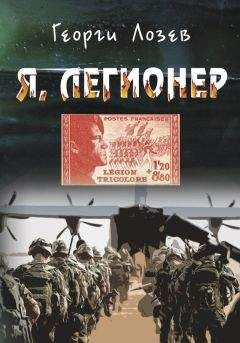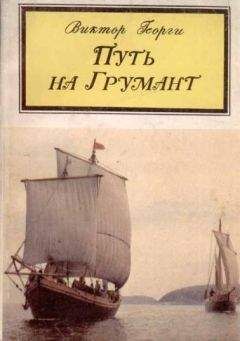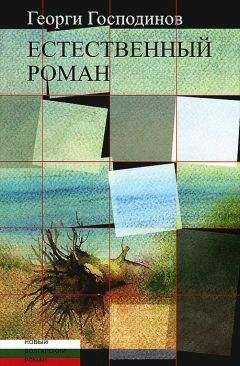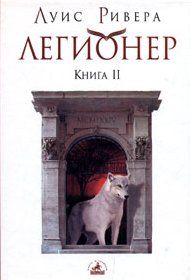Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга первая
И вдруг все остановилось, притаилось, и в наступившей тишине резко раздался удар об пол прикладов часовых, охранявших вход в среднюю царскую ложу. Двери ложи распахнулись, выбежали церемониймейстеры с длинными тросточками, и за ними появился государь, ведя под руку новобрачную. Тут мне посчастливилось: в коловороте, получившемся от того, что надо было дать дорогу высочайшему шествию, направлявшемуся к зале, примыкающей к левой боковой царской ложе (там было сервировано вечернее угощение), я был оттерт до ступеней лестницы, поднимавшейся в верхние ярусы. Оттуда немного сверху стало особенно хорошо все видно. И тут я впервые увидал Александра III совершенно близко. Меня поразила его громоздкость, его тяжеловесность и — как-никак — величие. До тех пор мне очень не нравилось что-то мужицкое, что было в наружности государя, знакомой мне по его официальным портретам (один такой портрет висел в актовом зале казенной гимназии, другой в большом зале Городской Думы). И прямо безобразною казалась мне на этих портретах одежда (мундир) государя — особенно в сравнении с элегантным видом его отца и деда. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, ее грубая простота, и хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всем этом забывалось, до того самое лицо государя поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд его светлых (серых? голубых?) глаз. Проходя под тем местом, где я находился, он на секунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю то, что я тогда почувствовал от встречи наших взоров. Этот холодный стальной взгляд, в котором было что-то и грозное и тревожное, производил впечатление удара. Царский взгляд! Взгляд человека, стоящего выше всех, но который несет чудовищное бремя и который ежесекундно должен опасаться за свою жизнь и за жизнь самых близких! В последующие годы мне довелось несколько раз быть вблизи императора, отвечать на задаваемые им вопросы, слышать его речь и шутки, и тогда я не испытывал ни малейшей робости. В более обыденной обстановке (при посещении наших выставок) Александр III мог быть и мил, и прост, и даже… уютен. Но вот в тот вечер в Мариинском театре впечатление от него было иное, — я бы даже сказал, странное и грозное.
Высочайшее шествие шло (довольно быстрой поступью) парами. Если я не ошибаюсь, вторую пару составляла императрица Мария Федоровна под руку со своим братом — королем эллинов Георгием. За ними следовали члены царствующих домов России, Греции, Дании и разные иностранные принцы. Пробыв за вечерним чаем с полчаса, высочайшие тем же порядком вернулись в среднюю царскую ложу, и при этом втором проходе я мог уже более внимательно вглядываться в отдельные лица. Особенно меня тогда поразила матовая бледность прелестного лица и юных плеч новобрачной, что-то трогательное, точно обреченное было в ее выражении. Это придавало Александре Георгиевне совершенно особое, трогательное обаяние. Замыкали шествие знакомые мне по вечеру у Сабуровых сыновья великой княгини Екатерины Михайловны герцоги Мекленбург-Стрелицкие — долговязый и симпатичный Георгий и младший брат его, весь какой-то сжатый, замкнувшийся Михаил.
С помянутым только что герцогом Георгием я вскоре после того вошел в личный контакт, и рассказом об этом случае я закончу свое повествование о том, как «я вернулся к светской жизни».
Альбер был очень ласково принят при дворе великой княгини Екатерины Михайловны; он часто там бывал, обедал и завтракал. И вот ему вздумалось угостить у себя на даче (в Ораниенбаумской Колонии) ответным обедом старшего из сыновей великой княгини. Его королевское высочество (так величали в России герцогов Мекленбургских) «милостиво приняло приглашение», а я как раз тогда гостил у брата — Мария Карловна была за границей вместе с моей бывшей (и будущей) невестой, ее сестрой Атей — и таким образом провел целый вечер в обществе этого члена императорской фамилии. Для тогдашних моих настроений это был весьма характерный случай, я был действительно счастлив и даже вошел в некоторый транс; я что-то уж очень много говорил, переплетая русскую речь с французской, и, несомненно, представлял собой довольно смешное зрелище. Герцог Мекленбургский не был для меня тогда какой-то «королевской особой третьего ранга», для меня это был «подлинный высочайший», — внук брата высокопочитаемого мной (по примеру отца) Николая I и прямой правнук Павла. Особый ореол придавало Георгию Георгиевичу то, что зимой в Петербурге он тогда еще жил вместе с матерью в самом грандиозном из всех дворцов (после Зимнего) — Михайловском (ставшем впоследствии Русским музеем императора Александра III), а летом — в сказочном Ораниенбауме, — к которому я питал с раннего детства прямо-таки трепетное чувство. (Я уже упоминал, что я даже боялся Ораниенбаумского дворца, центр которого был увенчан гигантской княжеской короной, а на двух концах его длинного фасада торчало по башне с каким-то очень странным куполом.) И вдруг принц, живший в этом волшебном замке, оказался моим vis-a-vis за столом моего брата, я мог к нему обращаться, беседовать с ним. Осмелев, я даже с ним заспорил (что должно было особенно раздражать моего брата!).
Георгий Георгиевич Мекленбургский (носивший в семейном кругу имя Жоржакса) вырос в музыкальной атмосфере, созданной еще его бабкой, знаменитой меценаткой великой княгиней Еленой Павловной, у которой когда-то запросто (и не запросто) бывали (и играли) и Лист, и Антон Рубинштейн, и все выдающиеся, известные на весь мир виртуозы и композиторы. Георгий Георгиевич был сам хорошим пианистом, ему же принадлежала заслуга создания и содержания первоклассного квартета камерной музыки, носившего его имя и пережившего на несколько лет своего основателя. Однако Георгий Георгиевич ничего, кроме немецких классиков, не признавал, я же тогда переживал первые месяцы своего бешеного увлечения Вагнером, считая всегда своим долгом ломать копья в честь своего кумира. Напротив, для Жоржакса Вагнер, хотя и был немцем, однако продолжал быть представителем неприемлемой «музыки будущего», а в «Кольце нибелунга» он признавался, что ничего, кроме шума, не слышит. Этого я никак не мог вынести…
Должен еще прибавить, что тогдашнее мое дерзновение можно объяснить той атмосферой интимности, которую распространял вокруг себя герцог. Этот очень высокий, но скорее на немецкий лад немного неуклюжий офицер с длинным лошадиным лицом, со светлыми свисавшими усами, был само добродушие. Впечатлению добродушия способствовала еще и его чуть затягивавшаяся на гласных, обладавшая легким акцентом русская речь. Что-то мило-комическое было и в его военной выправке, которой противоречил его добрый из-под стекол золотого пенсне взгляд близоруких глаз. Чувствовалось, что ему милее всего на свете домашний уют и семейная обстановка. Лишь временами он вспоминал, что он принц, что ему надлежит подтянуться, напустить на себя важность. У него, как и у брата Михаила Георгиевича, установилась в Петербурге репутация очень недалекого человека. Однако впоследствии, сделавшись более или менее своим человеком в доме Мекленбургских, я мог убедиться, что Жоржакс, при некоторой своей (тоже очень немецкой) наивности, человек далеко не глупый, что он был более на европейский лад образован, нежели многие его собратья, наши коренные великие князья.