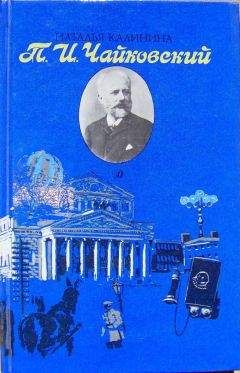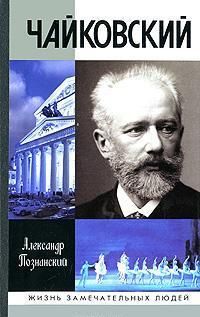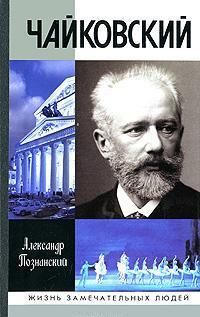Александр Познанский - Чайковский
Двенадцатого декабря композитор отбыл в Берлин: в Германии он должен был принять участие в постановке «Иоланты», а затем дать концерт в Брюсселе.
В феврале постоянные и неразлучные молодые спутники Чайковского в Петербурге в составе Боба и Юрия Давыдовых, Сани и Константина Литке, Владимира Направника, Николая Конради, Руди Буксгевдена и присоединившего к ним сразу по приезде в Петербург князя Владимира Аргутинского-Долгору-кова, с Модестом во главе, сфотографировались всей группой, о чем Петр Ильич узнал от младшего брата и обиделся на то, что они не пожелали дождаться его приезда в столицу, чтобы сняться вместе. В Петербурге он получил эту фотографию от Модеста с таким комментарием: «Зачем писать Четвертую сюиту, когда у тебя уже есть Четвертая свита». Так за ними это прозвище и закрепилось. Фотографию он поместил у себя в гостиной в Клину, где она находится и поныне. В письмах 1893 года Петр Ильич посылает «4-й сюите бесчисленные нежности». Нет сомнения, что эта живая и симпатичная молодежь должна была озарять жизнь композитора теплым и радостным светом, и уже потому последние годы его вряд ли были годами мрака и отчаяния, как это пытаются представить некоторые исследователи.
Глава двадцать восьмая «Патетическая» симфония
«Я буквально не могу жить не работая, — писал Чайковский великому князю Константину Константиновичу, — ибо как только кончен какой-нибудь труд и хочется предаться отдыху, как вместо отдыха наслаждения утомившегося труженика, заслужившего право на заманчивое dolce far niente (сладкое безделье. — ит.), является тоска, хандра, мысли о тщете всего земного, страх за будущее, бесплодное сожаление о невозвратимом прошлом, мучительные вопросы о смысле земного существования, одним словом все то, что отравляет жизнь человеку, не поглощенному трудом и вместе склонному к ипохондрии, — и в результате является охота немедленно приняться за новый труд. Понятно, что при таких обстоятельствах не всегда этот новый труд вызван настоящей творческой потребностью». Должно быть, сочинение новой симфонии, разочаровавшей его, не было вызвано, как он считал, «настоящей творческой потребностью».
В начале декабря Чайковский получил от вице-канцлера Кембриджского университета профессора Джона Пейла запрос, согласен ли он принять звание почетного доктора этого университета и приехать на празднование 50-летия их Академического музыкального общества в июне следующего года.
Приглашение он принял, хотя и не без внутренних сомнений. Этой зимой его ждали в Гамбурге, Шверине, Брюсселе и Одессе. Поездки за границу, ставшие утомительной рутиной, уже не только не радовали его, но и стали внушать отвращение. После петербургских премьер ему опять предстояла Германия. Во время пребывания в Берлине ему захотелось провести какое-то время в Париже, «который один может до некоторой степени утишить любую тоску», одолевшую его снова.
Недовольство критиков «Иолантой» и «Щелкунчиком», несмотря на браваду, ранило его, но имелись и другие важные обстоятельства. Играло роль не только уязвленное самолюбие, но и недовольство собой и почти законченной новой симфонией. 16/28 декабря композитор сообщал Бобу: «Я до сих пор сижу в Берлине. У меня не хватает мужества тронуться, благо, торопиться не нужно. Эти дни я предавался важным и чреватым последствиями помышлениям. Просмотрел я внимательно и, так сказать, отнесся объективно к новой своей симфонии, которую, к счастию, не успел инструментовать и пустить в ход. Впечатление самое для нее не лестное, т. е. симфония написана просто, чтобы что-нибудь написать, — ничего сколько-нибудь интересного и симпатичного в ней нет. Решил выбросить ее и забыть о ней. Решение это бесповоротно, и прекрасно, что оно мной принято. Но не следует ли из этого, что я вообще выдохся и иссяк? Вот об этом-то я и думал все эти три дня. Может быть, сюжет еще в состоянии вызвать во мне вдохновение, но уж чистой музыки, т. е. симфонической, камерной писать не следует. Между тем жить без дела, без работы, поглощающей время, помыслы и силы, очень скучно. Что же мне остается делать? Махнуть рукой и забыть о сочинительстве? Очень трудно решиться. И вот я думаю, думаю и не знаю, на чем остановиться. Во всяком случае невеселые провел я эти три дня. Однако ж, совершенно здоров».
Ответ Боба несколько удивил композитора. «Читая твое письмо, — писал племянник, — переполненное саморазоча-рования, я, во-первых, нисколько не удивился, что ты мне это пишешь, а во-вторых, улыбнулся — как и вообще его содержанию, так и тому, что ты не можешь писать иначе, как возбудив себя искусственно сюжетом, либретто и пр. <…> Твое состояние само по себе меня бы обеспокоило, если бы оно не было следствием нравственного утомления, вызванного пребыванием в Петерб[урге]. Жаль, конечно, Симфонию, которую ты, как в Спарте детей, бросил со скалы, потому что она показалась тебе уродом. Между тем, наверное, она так же гениальна, как и первые 5. Тщетно ты будешь стараться обобъективиться, тебе это никогда не удастся». Впечатленный этим рассуждением, Чайковский не уничтожил написанное и позднее использовал эскизы первой части в Третьем концерте для фортепьяно с оркестром.
Тем не менее разочарование было настолько сильным, что вызвало затяжную полосу тоски, продолжившуюся до февраля, когда композитор начал работать над другим симфоническим проектом, но уже с удовольствием.
На этот раз в его заграничную поездку входили и личные планы. Еще в начале года он получил письмо с просьбой о встрече от своей бывшей гувернантки Фанни Дюрбах, которая жила в городке Монбельяр, недалеко от Базеля. Так что из Берлина он — еще до Парижа — отправился в Швейцарию. Продолжая страдать от хандры, описывал свои чувства Модесту из Базеля 19/31 декабря: «Ничего не хочется писать, кроме слезных излияний. Поистине изумительно, что я не схожу с ума и не заболеваю от феноменальной, чудовищной тоски. Так как это психопатическое явление повторяется с каждым моим путешествием за границу и все сильнее и сильнее, то, конечно, теперь я уже один никогда не поеду хотя бы на самый короткий срок. С завтрашнего дня это чувство пройдет и сменится другим, все-таки гораздо менее мучительным. Завтра я еду в Mont-beliard и, признаюсь, с каким-то болезненным страхом, почти ужасом, точно в область смерти и давно исчезнувших со сцены мира людей. Затем в Париже буду делать официальные визиты со-академикам и, вероятно, заверчусь в вихре суеты. Это все же лучше. В Брюсселе опять будет не до тоски, а затем Одесса, где все-таки уж дома и где меня радует свидание с Васей [Сапельниковым]. Только разлука научает познавать степень любви к близким людям. Помнишь, как я недавно равнодушно отзывался об Алексее Ивановиче [Софронове]. Ну а теперь, если бы он передо мною появился, я бы, кажется, умер от радости. Как я тебе завидую! Как, должно быть, тебе хорошо отдохнуть от Петербурга (Модест отдыхал в доме Чайковского в Клину. — А. П.). <…> Какая пакость и тоска этот Базель!!!»