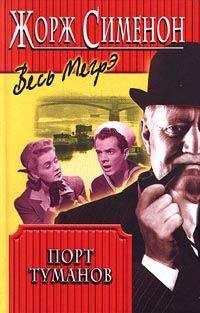Жорж Сименон - Пассажир «Полярной лилии» (cборник)
Помню одно воскресенье, когда мы все собрались в доме на улице Пюи-ан-Сок, и ему, девяностолетнему старику, первый раз в жизни вырвали зуб.
Это взял на себя Артюр, шляпник Артюр; он у Сименонов был младшим любимым сыном: толстощекий, пухлый, румяный парень, светлоглазый, белокурый, с вьющимися усами.
Артюр хохочет, распевает, шутит с утра до вечера. Он свеж и смазлив, точь-в-точь влюбленный с почтовой открытки, одной рукой протягивающий букет цветов, а другую прижавший к сердцу.
Жюльета, его жена, такая же румяная, белокурая и смазливая, тоже словно сошла с наивной открытки. Среди Сименонов-внучат, заполоняющих по воскресеньям двор, на ее долю приходится целых трое.
У столяра Люсьена тоже трое. Он поменьше ростом, поплотнее, посерьезнее братьев — законченный тип честного исполнительного мастерового, каких изображают в пьесах из народной жизни, где они, преисполненные чувством собственного достоинства и честностью, говорят хозяину всю правду в глаза.
Тетя Франсуаза приходит без Шарля — у него молебен м вечерня. У нее двое детей, и она ждет третьего.
Есть еще Селина, младшая дочка. Она недавно вышла замуж за Робера Дортю, наладчика. В скором времени она тоже обзаведется тремя детьми.
Вокруг Папаши и Кретьена Сименона представлены все поколения. Одному младенцу суют грудь, другому греют рожок с молоком — здесь вечно пахнет, как в яслях. Тут же стирают пеленки, вешают их на веревку над плитой, вытирают розовые попки.
Все, кроме Анриетты, чувствуют себя здесь как дома.
На улице Пюи-ан-Сок все лавки открыты: в те годы магазины работали и вечером, и по воскресеньям. Время от времени звонит дверной колокольчик, и Кретьен Сименон на минутку выходит.
Вот он в магазине — важный, неторопливый. Примеряет кому-то фуражку или шляпу. Вкусы покупателя его не беспокоят. Шляпник он или не шляпник? Даром, что ли, столько лет изучал ремесло?
— Не кажется ли вам, что эта шляпа мне велика?
Нет.
Как вы считаете, может быть, лучше…
Эта шляпа прямо для вас!
В четыре часа на кухне обед. Обедают в две смены. Чудовищных размеров пироги, кофе с молоком. Сперва кормят детей, потом отсылают их играть во двор, чтобы не мешали взрослым, которым тоже пора за стол.
Во дворе неизменный запах застоявшейся воды и бедности.
Все Сименоны здесь у себя, в своем квартале, в своем доме, в своем приходе. Им понятно, о чем говорят с ними церковные колокола.
Никто ничем не занят, никто ни во что не играет. Разговоров тоже не ведут.
Мужчины сняли пиджаки и, за неимением кресел, слегка откинули назад стулья, прислонив их спинками к стене. Женщины занимаются детьми, обсуждают питательные смеси, детские поносы и запоры, кулинарные рецепты.
А рядом семейство Кранц, у которого нет своего дворика, выставляет стулья прямо на тротуаре напротив «Больницы для кукол».
Прочие семьи на этой улице, в этом квартале тоже расположились поуютнее под сенью башни святого Николая, которая словно охраняет их покой.
Почти все они родились в этом же приходе, здесь пошли к первому причастию, здесь женились, здесь и умрут.
И только фламандочка Анриетта с ее оголенными нервами, с беспокойными глазами, последыш рассеявшейся семьи, хоть и носит фамилию Сименон, чувствует себя не в своей тарелке. Зато и окружающие никогда не признают в ней свою.
Может быть, ее коробит от вульгарных и шумных шуток Артюра? От синих точек на руках и лице у Папаши? От ледяной властности матушки Сименон?
Когда-то, когда дети еще не переженились, не повыходили замуж, за столом их бывало тринадцать. И под рукой у Кретьена Сименона, сидевшего во главе стола, всегда лежал прутик.
Кто опаздывал к столу хоть на несколько секунд, шел спать не евши. Кто болтал, баловался за едой, получал удар прутиком по пальцам — без гнева, без лишних слов.
А матушка Сименон сновала, не присаживаясь, между столом и плитой.
В жизни, по мнению Сименонов, нет ни сложностей, ни тайн. Для них ничего не может быть скандальнее поведения Анриетты, у которой вечно болит поясница или живот, которая трудно рожала, а теперь, возможно, ляжет на операцию, и которая вдруг ни с того ни с сего разражается рыданиями из-за какой-нибудь ерунды — просто потому, что она из породы неуравновешенных людей и все ранит или пугает ее. В таких случаях матушка Сименон смотрит на Дезире. Слов не требуется. Она смотрит, и он встает, смущенный, униженный.
— Идем, Анриетта…
Он ведет ее на улицу — пройтись до угла.
Что с тобой такое?
Не спрашивай!
Никто тебе ничего не сказал, не сделал…
Это верно, и в этом-то весь ужас! Но разве Дезире поймет? Он ведь тоже Сименон.
— Ну-ну, постарайся же не портить другим настроение!
Она сморкается. Прежде чем вернуться, улыбается через силу, поглядевшись в зеркало у кондитера Лумо.
Она крошечная, молоденькая, слабенькая. Все в один голос твердят, что здоровье у нее никуда не годится.
И все же будущее за ней. На смену полосе Сименонов придет полоса Брюлей, и уже тогда будут сплошные Брюли: долговязый Дезире начнет ходить с женой на набережную Сен-Леонар, и к Вермейренам, и в Сент-Вальбург. И уж там он окажется чужаком: при нем, не церемонясь, станут даже говорить по-фламандски.
Тринадцатая, последыш. Комок нервов.
А когда почти все Сименоны умрут, сам Кретьен Сименон, глава династии, будет приходить к ней по утрам, выбирая те часы, когда она дома одна. Он будет садиться в уголке у огня, как Леопольд когда-то, и жаловаться ей, словно ребенок, а она украдкой будет кормить его вкусненьким.
Анна, живущая в Сен-Леонар, богата: у нее два дома. Муж Марты Вермейрен еще богаче — он один из самых состоятельных людей в городе.
У них есть дети. Они застрахованы на случай болезней в старости.
Тем не менее все они, один за другим, придут за утешением в скромную кухоньку к той самой Анриетте, у которой всю жизнь глаза на мокром месте.
Четыре стены, выкрашенные масляной краской, вычищенная до блеска плита, суп на огне и на камине будильник, тикающий как сердце; деревянный, вымытый с песком стол, плетеное кресло; за окном — дворик, где сохнет белье, да беленая известкой стена. В супнице — несколько пожелтевших бумаг, вместо картин — две литографии.
Анриетта сама еще не знает, что ей нужно; ей всегда и всюду плохо. Она очень удивилась бы, скажи ей кто-нибудь, что эта кухня, которую она так терпеливо прибирает, повинуясь точному, почти животному инстинкту, станет чем-то вроде исповедальни для всей родни. Сюда будут ходить к самой беспокойной из женщин, чтобы обрести немного покоя.