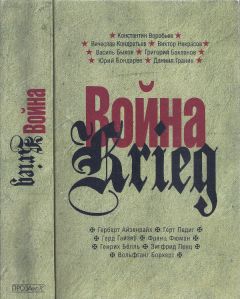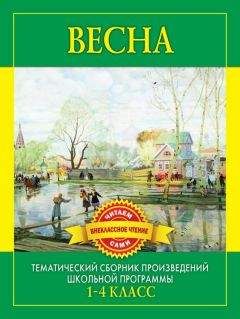Анатолий Марков - Родные гнёзда
— В книгах, Моисеич, конца не видно, а жить становится трудновато, это верно, да ещё смотри, как бы хуже не стало.
— Должно, что так… Божье хотенье, — вздохнул старик. В это время издали донёсся стук колес, скрип телеги и пьяный голос, что-то кричавший. Старик, виновато взглянул на меня, поднялся. Я понял, что к нему едет из села сын «праздновать Троицу», т.е. пьянствовать на пасеке, чего Моисеич очень не любил. Не желая видеть пьяницу и смущать старика, которого мне было жалко, я стал прощаться, он понял и не удерживал.
— Ну, будь здоров, барчук! Спасибо за подарочек и что старика не забываешь.
Я пожал заскорузлую негнувшуюся руку Моисеича и сел на коня. Выезжая из оврага, оглянулся назад. Старик продолжал стоять молча у калитки, задумчиво и грустно опустив седую голову и тяжело опираясь обеими руками на пастуший посох. Больше мне с ним встретиться не пришлось — это была моя последняя Троица на родине.
Престольный праздник
Кто считает Пасху самым большим праздником русской деревни, тот глубоко ошибается. Главным праздником в году у крестьян был всегда храмовой праздник, в котором каждый мужик видел торжественный день своего деревенского покровителя.
В нашей Курской губернии народ особенно любил осенние и зимние «престолы», так как Троица, Вознесение, Петров день и Спас были в деревнях днями «постными», уж не говоря о том, что крестьянские руки были заняты полевыми работами, не было ни свежины, ни птицы, продать было нечего, а потому не было и денег на гулянку. Зато с Покрова один за другим начинались «настоящие престолы», как Казанская, Скорбящая, Димитриев и Михайловы дни, и так вплоть до зимнего Николы, русского престольного дня по преимуществу.
Все полевые работы к этому времени прекращались, свиней, подобравших последний колос на жнивьях, били на сало и свежину; били и лишнего барана, чтобы не кормить зимой; продавали на покровских ярмарках всякую лишнюю скотину, требовавшую себе зимнего ухода и содержания. Гуси и утки, ожиревшие на даровом зерне, резались и продавались огулом. Хлеб был обмолочен, конопля продана, закрома полны, и деньги начинали шевелиться в мужицкой мошне.
Натёрший себе спину пятимесячной работой от зари до зари, мужик к осени стремился отдохнуть и побаловать себя плодами своих трудов. Оттого-то никогда не бывало на Руси таких длинных, весёлых и пьяных праздников, которые начинались по деревням с Покрова.
Уже за неделю до престольного праздника в нашем селе чувствовалось праздничное настроение. Никто не нанимался ни на какие работы, все стремились в эти дни вернуться к своим домам и хозяйствам. Кто только мог, расчитывался с хозяином, кто не мог — требовал отпуска, чтобы чувствовать себя свободным. К празднику в село собирались такие люди, о существовании которых многие уже стали забывать, но которые имели на деревне какую-нибудь связь с настоящим или прошлым. Приходили мастеровые из Курска и Орла в новых картузах и с новыми гармониками, шахтёры из Таганрога, сходились со всех сторон отсутствовавшие мужчины, женщины, девки и мальчишки.
Некоторые появлялись к празднику из Ростова и Екатеринодара, сделав несколько сот вёрст пути. Приходил из Крыма старый пьяница Касьян с перебитой спиной и застарелым запахом сивушной гари. Приходил знаменитый гармонист, силач и пьяница Николай — столяр, притащивший неизвестно зачем к сестре жену и дочь, сняв их с места у какой-то генеральши. Приплёлся из Харькова даже Андрюшка Дардыка, у которого на селе осталась родни только невестка покойной жены.
Праздник открывался уже накануне «престола». Съезжались из Щепотьевки, Ольховатогошни, Липовского и Красной Поляны, отовсюду, где только были кумовья, сваты и родня. Иметь кума на селе, где шумел престольный праздник, было большое удовольствие и гордость для мужика. На праздник «ехали» не просто, всякий гость старался обрядить себя, сани и лошадей, как только можно лучше. Только самый бедный ехал в розвальнях, мало-мальски зажиточный хозяин имел на этот торжественный случай особые сани, с решётчатой спинкой и скамьёй, которые именовались почему-то «диванными». Их устилали коврами, лошадь покрывали попонкой, к дуге и натяжному хомуту подвязывали колокольчик и бубенцы, а когда своих не было, занимали у добрых людей.
Редкий гость ехал в одиночку, в гости мужик считал неприличным тащиться на одной лошадёнке, а всегда припрягал хоть какую-нибудь пристяжку, хотя бы двухлетнего жеребёнка, чтобы только бежал для вида. На покрытых коврами санях самодовольно восседали праздничные фигуры баб и мужиков в крытых тулупах, заячьих шубах, цветных платках и в свежесмазанных сапогах. Тут уже нельзя было увидеть обычную сермягу, лапоть или корявый тулуп с дырами. Все поезжане сознавали особенность своего положения и смотрели на глазеющий на них народ, не участвовавший в празднике, со спокойной гордостью. Они чувствовали, что составляют часть торжества, и что в их образе ехал сам «престол», а не просто проезжие.
— Бабушка! Что ж ты сидишь? — кричала запыхавшаяся девчонка. — Престол едет!
— О-о? Ай уж тронулся? — спрашивала бабка, торопливо слезая с печки. — Пойтить посмотреть, что ж ты раньше не сказала!
— Ей-богу, бабушка, сама только что увидала… Спаские тронулись, да всё парами, с колокольцами… А уж разодеты как, Матрёна Шаланкова в шубе бархатной, а на голове шаль жёлтая… убей меня бог!
Но настоящий праздник был ещё впереди. Хотя с вечера пили и ели досыта, однако, все же удерживались, так как «до обеден — будто не закон». К обедне в тесную сельскую церковь народу набивалось невпроворот. В храме было холодно, как в погребе, во всяком случае, холоднее, чем на дворе; это не мешало тому, что бабы и девки спокойно стояли себе в одних башмаках, нарочно распахнув свои шубы и кофты, чтобы все видели их цветные наряды.
Круглые широкие лица деревенских красавиц в ярких платках с безмятежно-счастливым довольством смотрели кругом себя, а двадцатиградусный никольский мороз только подрумянивал до густоты малины тугие деревенские щёки. Да и как им было не ликовать? Дома они целый год ходили бессменно в замашных рубахах и в затрапезных юбчонках, а теперь все подряд красовались в плисе, розовых ситцах и ярком миткале.
Мужики тоже стояли богач на богаче, у кого не было крытой шубы — новая свитка поверх полушубка, пояса им бабы понаткали к празднику яркие с концами бахромой ниже колен. Все были причёсаны и примаслены, сразу было видать, что их накануне всех парили в печке.
Поп Никита служил обедню почти трезвый. Это с ним случалось редко, и ещё реже в престольный праздник. За его «питьевые» способности и за душевную «простоту» он был очень любим своими прихожанами: к непьющим попам в деревнях относятся подозрительно, как к людям, «брезгующим народом». За пристрастие к рюмке архиерей два раза уже ссылал о. Никиту в наказание в монастырь «толочь воду», но всякий раз крестьянский мир и соседние помещики грудью вставали за своего «душевного» попа и добивались возвращения его обратно.