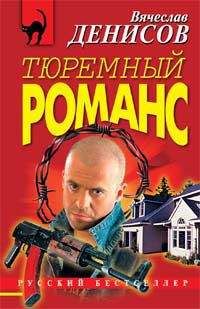Александр Шмаков - Каменный пояс, 1977
Березы, голые, белотелые, стояли на их пути. Баюшкин и Флюра слышали тихий звук или звон, который исходил от стволов, печально дрожал в стылом воздухе. Флюра, осторожно ступая по сухим желтым листьям, тянула Федора за руку все выше и выше, и он шел за ней, перегнувшись надвое, шел туда, куда она вела, куда-то к небу. Туда, где на фоне осеннего неба четко стояла сквозная треугольная железная вышка. Этой не холодно, как березам. Этой было все равно.
Баюшкин недоумевал, почему Флюра тащит его на самую вершину, но она молчала, только приложила палец к губам. Наверное, там, на вершине Магнит-горы, хотела сообщить ему, что наконец-то ей удалось, как говорят, ликвидировать академическую задолженность, что по английскому все «о’кей», что теперь она студентка второго курса, а посему можно песни петь и идти за город, в степь, к небу, куда глаза глядят…
Около вышки Федор укутал Флюру плащом, обнял за маленькие плечи, прижал к своему теплому боку, и они вместе, разом, взглянули с вершины на землю. Их взору открылась большая земля со степью и Уральскими горами, городом и заводом.
— Так вот где мы живем, Флюра!
— Да. Ну, а теперь поцелуй меня.
…Проснулся Баюшкин от толчка в плечо. Первое, что он увидел сразу, — веселое лицо рыжей кондукторши. Она по-доброму смеялась.
— Вставай, гражданин! Вроде трезвый, а все остановки проспал. Хороший сон видел?
— Точно, милая. Эх, славный сон приснился!
— Ну, тогда за это бери второй билет.
— А где мы?
— Кольцо.
Он крякнул, рассмеялся и вышел в теплый молоденький дождичек. «Смотри-ка, ливень-то я и проехал».
У него было такое настроение, словно надел на свое плечо радугу или подхватил под свои могучие руки тонущего и вынес на берег…
Первое, что он увидел дома, — на самом важном кактусе расцвел цветок. Он лучился среди шипов, ярко-белый с розовым цветом, был таким нежным, таким необычным, словно родилась во Вселенной новая звезда. Он прошел в другую комнату. Там у окна одиноко сидела его матушка, ворожила со спицами и что-то пела, припеваючи, вязала, в общем.
— А вот и я! — весело поздоровался он и вздохнул, словно в чем виноват перед ней, и добавил:
— Сегодня у нас был особый день…
Первое, что она спросила прокурорским тоном, было:
— Ну, сын, сколько сегодня выдал за смену?
Он засмеялся и ответил степенно, как на рапорте:
— На сто процентов! Ма, а что это у нас в доме тишина?
Мать пристально посмотрела на него, отметила его веселость и добродушие, залюбовалась им и просто объяснила:
— Так ты же всех моих подруг сам проводил.
— Разве? Кхм… Я только тех, кто сватать любит.
— Ну, ладно. Мои гости никуда не денутся. Одна на вокзале, другая на базаре, как говорят.
— Подавай на меня в товарищеский суд.
Мать рассмеялась, а он смотрел на ее седую голову, на золотые очки, которые она то и дело поправляла, скрывающие полуслепой взор молодых еще глаз, и хотел грохнуться перед ней на колени и просить запоздалые прощения за проказы в детстве, за вины в отрочестве и иную непутевость в молодости, во всех прошедших годах, в которых с каждым новым годом — новый седой волос. Это сыновнее раскаяние и благородное чувство охватили его с ног до макушки.
— Хоть бы ты, сын, полюбил кого. А?
Он замялся, мол, чего нету — того нету, а мать разгладила пальцами свои брови и вздохнула:
— Любовь… была она у меня однажды. Вот и родился ты.
Кашлянула, хитро улыбнулась и пропела, перебирая спицы:
Она была полна печали.
Слеза из глаз ее катит.
Поправила на переносье очки, опять вгляделась в сына, решила:
— Сейчас ужинать будешь. Чай сегодня я крепкий заварила.
Баюшкин словно спохватился:
— Ма, я ведь получку принес.
Он уважительно положил перед ней на стол пачку денег.
— Смотри-ка, целых триста рублей, как у министра какого. Куда же девать их столько…
— Тебе платье, мне костюм купим.
— Да у тебя их вон сколько!
— Новые привезли. Хвалят. Купим — всем буду хвалиться, как самым первым костюмом после армии: без отца и матери нажил.
Мать сняла очки.
— Да… без отца. Недолго он пожил после победы. Раны замучили.
— Батя у нас герой. Три ордена Славы ты, мама, наверное, каждый день до блеска чистишь?
Мать вздохнула:
— Каждый… Сын, а к тебе приходили.
— Кто? Полина?
— Да нет! Эта пигалица черненькая, красивенькая. Ну, та, что кухню мне белить помогала. Пришла радостная вся, аж светится. Ну, Флюра которая…
«Английский сдала», — догадался он.
— Чуть не пела только. Все спрашивала, когда мой Феденька придет? ЕЕ, видишь ли, Феденька. Кроме меня, тебя никто так не называл. Садись ужинать. Я тебе и рюмочку налью. Куда ты?
…Оставив за спиной недоуменный, растерянный взгляд и возглас милой матушки: «Куда ты?», — Баюшкин осторожно прикрыл за собой дверь и ринулся к Флюре, как в полет.
Он спешил туда, на берег Урал-реки, где, наверное, сейчас общежитие педагогического института ярче всех горело огнями. Шагал сквозь косые навесы дождя, будто раздвигал занавесы, будто там за главным занавесом уже не цветы на асфальте, не пьеса, которую он не смог досмотреть без нее, а сплошные тюльпаны и розы, ждущие в городе под дождем солнца.
Все еще солнечным лучом перед глазами сверкает в сталеварской ложке золотой отсвет расплавленной стали. А еще в темноте вот так же вперемешку светят и глаза Флюры.
Баюшкин уже привык к ее черным с лучиками глазам — они стали родными, теплыми, зовущими и всегда оживлялись золотой искрой, когда она смеялась над ним. Снимала с него пробу, в общем! Ну, да ладно…
За бархатными голубыми шарами фонарей было слышно, как тяжело движутся под набухшим небом уральские воды к огромному мосту и ворочается течение в круговороте около каждого лба бетонных быков.
Баюшкин поднял воротник плаща, снял кепку и подставил голову летящей с неба воде. Освежаясь, он ловил ее в ладони, мыл руки и лицо и крякал от удовольствия.
Он мешкал. Он боялся встречи с Флюрой. Ну что из того, что она в разговоре с матерью назвала его «моим Феденькой»?! Но и то правда, что Флюра его непременно ждет.
Кому же, как не ему, сообщить о своей немаловажной победе на экзаменах, а ему кому, как не ей, — о сталеварской многотрудной удаче?!
Уж так повелось у молодых людей: радость — так на ладонь, открытую для всех, горе — спрятать в себя и печалиться втихомолку. А ведь Флюра горе свое все-таки положила на ладонь, но только не для всех, а для него, Федора.