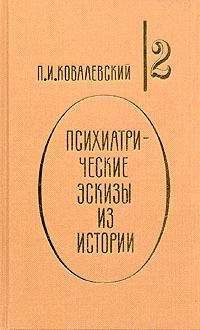Павел Сухотин - Бальзак
«Скрижали романтизма» — предисловие Виктора Гюго к его драме «Кромвель», вышедшей в 1827 году, — сводились в основном к требованию свободы в искусстве и к отказу от классических традиций строго ограниченных тем, жанров и правил. Романтики во главе с Гюго требовали свободы для своей необузданной фантазии, свободы для выражения своих личных чувств, для изображения того прекрасного и уродливого, что они видели в жизни или, вернее, хотели в ней видеть. А многого они и вовсе не хотели видеть в жизни, ибо отживающее дворянство не хотело быть свидетелем близкого торжества лавочников и банкиров, а мелкобуржуазная интеллигенция была разочарована падением своих демократических идеалов, которые завещала ей Великая французская революция. Поэтому романтика предпочитали брать материал для своего творчества вне окружавшей их действительности — в средних веках, в далеких странах.
К тому времени романтики создали уже свой второй кружок, оставив в нем одних подлинных романтиков (в первый кружок входили и те, которые еще не совсем порвали с классическими традициями), и определились как литературная школа. В этих боях, которые давали романтики классикам на страницах «Глоб», в своих манифестах и на театре, Бальзак участия не принимал, — он не принадлежал ни к какой школе и никогда не пытался теоретически обосновать свои взгляды на искусство. Он только инстинктивно чувствовал, что с ними ему не по пути, и в романтическом движении видел только его отрицательные стороны: чувствительность, неестественность. Ему, видевшему живую жизнь и стремившемуся ее отобразить, было непонятно как можно уходить от нее в далекое прошлое или в экзотику.
Типичный романтик-парнассец Теофиль Готье, самый «аполитичный» из своей школы, так пишет о Бальзаке и о себе. «Он (Бальзак) мог мысленно перенестись в маркиза, в финансиста, в буржуа, в человека из народа, в светскую даму, в куртизанку, но тени прошлого не повиновались его призыву: он никогда не умел, как Гете вызвать из глуби веков прекрасную Елену и поселить ее в готическом доме Фауста. За исключением двух-трех вещей, все его творчество современно; он сжился с живыми и не воскрешал мертвых… В музее античного искусства он смотрел на Венеру Милосскую без особенного восторга, но парижанка, остановившаяся перед бессмертной статуей, завернутая в длинную кашемировую шаль, которая без единой складочки спускается от затылка до каблуков, одетая в шляпку с кружевной вуалеткой, в узкие перчатки от Жувена, выставляющая из под рубца своего платья с воланами лакированный кончик скрипящего башмачка — она заставляла его глаза блестеть от удовольствия… Это имеет свою прелесть, но на наш вкус Венера Милосская лучше».
Французские романтики тоже, как и Бальзак, брали за образец Вальтер Скотта, только они заимствовали у него его романтические черты, а Бальзак взял от него то, что было в нем здорового и жизнеспособного.
И вот будучи в историческом романе учеником Вальтер Скотта Бальзак перерос своего учителя «декоратора и костюмера, к которому он пошел в обучение», и блестяще завершил круг французских исторических романов. Многие критики сожалели, что Бальзак не захотел стать французским Вальтер Скоттом, не учитывая того, что влияние английского романиста было уже исчерпано, и вскоре стали раздаваться все более трезвые голоса в оценке общего значения его творчества. А в 1840 году Стендаль[127] писал Бальзаку. «Проза Вальтер Скотта неэлегантна и в особенности претенциозна. Виден карлик, не желающий потерять ни одного сантиметра роста». Вслед за карликом шествовал гигант. «Шуаны» описывали эпоху, памятную тогда еще многим и переход от истории к современности был сделан. Отныне Бальзак пойдет новым своеобычным путем.
К 1829 году личная жизнь Бальзака укладывается в такие формы, отклонений от которых почти не было до самой смерти: ночная работа с крепчайшим кофе, малый сон и досуги, посвященные посещению театров, выставок и салонов, где устанавливались новые знакомства с представителями литературы и высшего света.
В 1828 готу он познакомился в Версале с герцогиней д'Абрантес и воспылал к ней страстью, но страсть эта была непродолжительна и, судя по письмам Бальзака к герцогине, носила характер великосветской интриги. Однако, он не переставал с ней встречаться: интерес заключался в том, что эта салонная чародейка была богатым источником сведений о Фракции времен Наполеона и его двора.
Герцогиня д'Абрантес. Акварель Гаварни
Герцогиня д'Абрантес[128] родилась на Корсике и с детства была близка с семьею Бонапартов. При содействии Наполеона она вышла замуж за Жюно[129]. Жюно изменял жене, и она стала искать утешения на стороне. Самой длительной связью ее был Меттерних[130], тогда австрийский посланник в Париже. Мемуары герцогини д'Абрантес, изданные в 1830 году, ни одним словом не упоминают об этой истории, и вот как объясняет это Робер Шантемесс:
В 1810 году произошел великосветский скандал, в котором были замешаны супруги Жюно, Меттерних и Каролина Мюрат[131]. О деле этом по воле Наполеона было запрещено говорить настолько, что сама Жюно-д'Абрантес в своих восьми томах мемуаров ничего об этом скандале не упоминает. Однако, наряду с официальными мемуарами, она писала интимные исповеди своим друзьям.
Первая исповедь была написана для маркиза де Балинкура, которого герцогиня называла своей «утехой любви». Вторая, составленная в 1829 году, посвящена Бальзаку, в чьих бумагах ее и нашли. Возможно, что Бальзак воспользовался этим материалом для своей «Покинутой женщины», посвященной, как известно, герцогине д'Абрантес.
Эту именно неизданную часть и опубликовал Шантемесс в «Нейе фрейе прессе» в январе и феврале 1934 года и предпослал этим мемуарам вступление, где дает очень яркую характеристику супругам Жюно, Меттерниху, его окружению, то есть тому людскому материалу, который под пером Бальзака ожил в художественных образах его романов в той или иной ситуации. Эти фигуры интересуют нас не как история, а как атмосфера тех салонов, в которых вращался Бальзак, и потому мы останавливаем на них свое внимание.
«… И наконец сама богиня дома — Лаура Жюно. Она — маленькая, бледная, с блестящими глазами, немного по-азиатски раскосыми: Ее «романские» зубы освещают лицо, как белая молния, тяжесть иссиня-черных волос давит ее хрупкую головку, длинный нос придает ей сходство со зверьком лаской. Но тайна ее очарования, ее изящество, ее совершенство — это шея. Она покачивается, меняет положение, она — само благородство. Голос своеобразный, уже немного грубый. Говорит она очень быстро, выкидывая слова, словно стрелы, внезапно прерывает себя и смеется, чтобы показать зубы. Ее острого язычка боятся и не доверяют ее обращению с людьми и вещами. Ей завидуют, и с основанием.