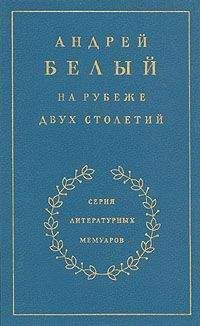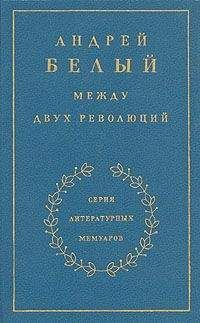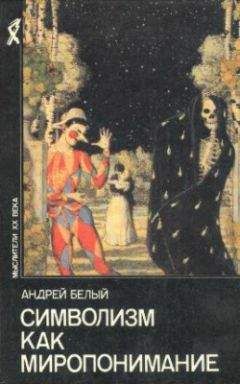Андрей Белый - Книга 2. Начало века
— «Не как пыйкий художник, Боинька, а как чеаэк, тьезво гьяжу я на могодые искания».
Подавалось это с умом, с жаром, с весом, с цитатами (Моммсен, Маркс, Куно Фишер, Кант, Конт).
— «Мы юди наюки».
Я думал, вот человек, овладевший историей и доисторией. Подавал руками такие трамплины для наших прыжков в царство будущего; вид же скромного труженика.
Не человек, а клад!
Эртель же, угадавши утопию, во мне жившую, мне ее подал под формой себя; отца очаровал эрудицией; мать пленил памятью о незабвенном Демьянове; веяло чем-то уютным, как… старое кресло, как чепчик с оборками, как часовая кукушка, как шамканье Серафимы Андреевны Лебедевой: об опухолях; понесло в нос — чехлом, нафталином, пыльцою и липовым чаем; каждому давалось право по-своему судить о нем; мне видеть в чехле стилизованную личину; матери подавались Танеевы; отцу — наука.
— «Мы с вами, Ниаай Васильич, тьезво смотьим на увьечения Боиньки».
Отцу это нравилось. Мишенька Эртель частил, предлагая изюминки:
— «Это надо понимать в пьескости тьянсфинитных чисей».
Отец — сиял: историк, а — трансфинитные числа!
Первое явление Эртеля — триумф Эртеля; он ходил: освещать нас; и была уютность в призире, сперва безобидном: маленький недостаток, без которого выглядел бы бесплотным духом; а тут попахивало: псиной, чепцом Софьи Андреевны, нафталином сестры Маруси.
Эртели же!
И привир котировался, как… деяние Моммсена, однажды притащившего с рынка им стибренный в рассеянности цветочный горшок: не вор же Моммсен!
Великий лгун
Скоро арбатский, пречистенский, поварской и хамовнический районы вспахал своим ртом, точно червь, Миша Эртель, в десятках квартир оставляя уверенность: здесь-то и высказал он существо своей тысячегранной позиции; у Масловых был холостяк, их потом обманувши женитьбой; в Демьянове он укреплял биологию В. И. Танееву и К. А. Тимирязеву: парень-рубаха, с «го-го» да «га-га»; мне даже он намекал: я — «струя теургии»; поддакивал он Боборыкину: против Астрова; поддакивал Астрову: против П. Д. Боборыкина.
Втер нам всем веру в себя: добр, умен, чуток! Производил чудеса, поднимаяся точно на двенадцать друг на друга поставленных стульев и выглядя выше жираффы, но сохраняя вид… серенькой блошки; и став «аргонавтом», братаяся с Эллисом, В. В. Владимировым, Христофоровой, мной; с П. Н. Батюшковым он лобызался взасос.
Мы — трамплин, от которого он совершил свой скачок: к Сен-Жермену.
Был горазд и находчив: и ввертываться, и вывертываться, выпекая весьма интересные «штуки» из сотен прочитанных книг, в них всыпая заглавия собственного изобретения: на подмогу себе владея французским, немецким, английским, чуть-чуть итальянским, владел-де санскритом, которым никто не владел; и на этих на всех языках он выдумывал литературы; с глазу на глаз филологу цитировал математиков, математикам — филологов, никогда не существовавших.
Чуткость сделал подножием лжи.
Не зная имени Блока, он после прочтения стихов Блока воскликнул в 1901 году:
— «Вот первый поэт!»
Мотивировал так, что увидел Белинского в нем: восприимчивостью — покорял (что ж — актив!); не имея сведений о теософии, но выуживая их у Батюшкова, на ходу подчитал и Ледбитера; поразил Батюшкова Ведантой и Самкьей [Философские системы Индии], с которыми был знаком: по Максу Мюллеру, и Вейшешикой [То же], с которой не был знаком;132 объясняя Ведантой Безант, он ошарашивал Батюшкова, воспринимавшего Веданту: по Безант; так сразу он взял тон учителя.
Эртель и Батюшков спарились; Эртель поревывал о величии души Батюшкова; Батюшков выпускал носом пары, заикаясь о том, что Михаил Александрович человек загадочный, принявший вид привирателя-добряка как подвиг юродства; бедному Батюшкову принадлежит почин пустить ракету о «посвященном»; «аргонавты» ее встретили хохотом; ракетная палка ушибла мозги каких-то старух, которые намотали на спицы: есть-де некий Эртель; но он — «скрывается».
Будет день, и покрывало Изиды спадет с его лика!
Эртель втирал в души Индию как историк древних культур, читавший и Дейссена; пленил он Бальмонта, взяв тон превосходства над ним; Батюшкова перевертывал он — так и эдак, эдак и так: с объятиями, с потрясением рук, поглаживанием по плечу и с лобзаньем взасос: «Дорогой Павел Николаич — гыы-ы-ы». «Дорогой Павел Николаич — гы-ы» выпускал килограммы пара; и взвизгивал:
— «Миша… — как свистком в потолок, с оскалом до ушей; пауза, пых: — глубже, чем о нем думают».
— «Тэк».
И Батюшков впадал в каталепсию размышлений о миссии Миши; Эртель был потрясением Батюшкова; роль «посвященного» свалилась, как на голову снег; он был нервен; мнения о нем в нем пылали видениями «сорока тысяч курьеров»;133 бледнел, зловеще блистал косым карим глазом, зеленым от лжи; огонь разрывал благодушие, пересыпанное нафталином.
И — в кресле сидело нечто — непередаваемое: по ужасу! Компресс на голову! Навалиться бы скопом, связать, положить на диван! Быт препятствовал: мамаша, сестрица, Танеевы, Масловы; эти не понимали, как может Миша калечить жизни. Вопили хором:
— «Не обижайте Мишеньку!»
Блюли Мишу и механицизм, и наивный реализм от… — «символистов», поставивших задачу сорвать с него маску; Миша возобновил посещенья Танеевых, являясь в Демьяново, где разгуливал по аллеям с «Аркашею» Тимирязевым (так его называл), с его папашей и с богохульником, Владимиром Ивановичем; когда я поздней написал фельетон-притчу, в которой изобразил Мишу под маской «великого лгуна», то материалист танеевского толка корил меня:
— «Зачем ты ушиб Мишу: он — добрый!»
Последний его приют — Москва восьмидесятых годов; материалист Танеев его защищал.
Перевоплощаясь в каждого, этот Пер Гюнт134 с остервенением вздувал «болезнь» в каждом, ее унюхав; таская меня по Пречистенскому бульвару, схватывал за руки, катался овечьими глазками:
— «Боинька, пожай теуйгии охватит всегенную». Делалось — нехорошо.
Когда упирались, то, вдохновленный видением «сорока тысяч курьеров», апеллировал к сочиняемой им литературе несуществующих предметов знания; эти «предметы» вылуплялись из потребности вывернуться, когда его ловили на лжи.
Сперва он врал в мелочах, рассказывая, как плавал в лодке с Харитоненками по залам харитоненковского особняка: в дни наводнения; потом ложь стала причинять неприятности: взволновав Грабаря сведениями о старинных особняках, уверил его, что где-то есть неописанный памятник Фальконета; говорят, — Грабарь лупил за розысками в какие-то медвежьи углы.