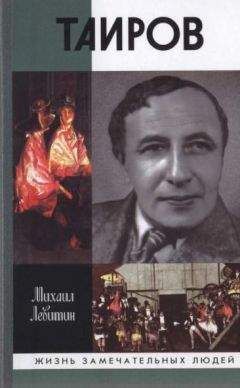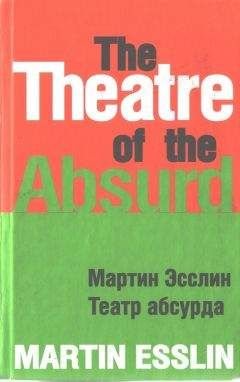Владимир Лакшин - Театральное эхо
Пока Раневская учила эту роль, она звонила мне домой едва ли не ежедневно. Восхищалась пьесой Островского и жаловалась только, что с трудом запоминает текст. Врач уверял ее, что на состоянии памяти сказалось давнее злоупотребление снотворным, многолетнее курение. «А я думаю дело не в этом: нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, играй после этого Островского!»
Ей хотелось показать Фелицату как прекрасное, чистое существо. Она всех вскормила, воспитала и все же одинока в доме, которому служит. Ведь именно она, вопреки всему, устраивает счастье молодых героев – Платоши и Поликсены, а сама в этот миг как бы становится не нужна; хозяйка дает понять, что ее выгонят.
Раневской хотелось спеть в финале куплет старой песни. В юности она слышала ее в исполнении великого актера Владимира Николаевича Давыдова. Она напевала мне эту песню: «Корсетка моя, голубая строчка…» – и спрашивала неуверенно, можно ли позволить себе такую отсебятину, если у Островского этого нет? «Я ведь полуинтеллигентная женщина, из гимназии меня выгоняли… Боюсь, вы меня не поймете… но так почему-то подходит эта песня для няньки…»
Я не стал охлаждать ее воображение ученым педантством, тем более что режиссер, ни с кем не советуясь, уже напридумал для пьесы таких «штук» и «фортелей», включая эффектное хоровое пение, что произвол Раневской на этом фоне выглядел весьма скромно.
Премьера прошла с успехом, хотя Раневская играла с огромным нервным напряжением, боялась перепутать текст. Чувствовалось, что, становясь центром спектакля, она как бы выпадает из его темпераментного, экстравагантного рисунка. Ее Островский был проще, скромнее и сердечнее.
Вершиной ее роли была последняя сцена: прощальным взглядом окинув стены и будто попрощавшись со всем, что здесь было прожито, нянька Фелицата покидала дом: это уходила из него его живая душа. Не давая пролиться слезам и мешая их с показным весельем, Раневская напевала, пританцовывая:
Корсетка моя,
Голубая строчка.
Мне мамаша говорила:
«Гуляй, моя дочка…».
Ее уход со сцены покрыли овации. Островский, подумал я, не посетовал бы на эту выдумку.
Наутро я позвонил, чтобы поздравить Раневскую с успехом. Она сказала, что не спала ночь, ибо уверена, что провалилась. Ей не нравился спектакль, не нравились затеи режиссера, не нравилось, что слишком быстро вертится круг, меняя выгородку, но больше всего не нравилась себе она сама. «А как же овации, цветы?» – возразил я. «Ах, публика ничего не понимает, – отмахнулась она. – Впрочем, я всегда вспоминаю слова Ахматовой: какая ужасная профессия быть актером – обречены всего бояться, от всего зависеть…»
Правда, ужасная профессия, готов был согласиться я, особенно если быть неудачником. Но вдруг подумал: а впрочем, прекрасная профессия – если… если быть Фаиной Раневской!
Александр Сергеевич – четвертый
Звонок. Я открываю дверь человеку, который разом заполняет собой все пространство передней. Высокий, краснощекий с мороза, в шапке с болтающимися ушами, в нескладном пальто с поднятым воротом и в старомодных очках с железными дужками, какие носили перед войной сельские учителя и бухгалтеры. Из-за чуть пригорбленной спины он достает и держит в вытянутых руках холщовый мешок: ему б еще бороду и ватную шапку с красным верхом – совсем рождественский дед! Передняя наполняется гулом его зычного баритона с легкой хрипотцой на низах. Он называет себя, забыв, что мы давно знакомы:
– Позвольте представиться: Крынкин Александр Сергеевич. Чтобы вы никогда больше не переспрашивали, как меня зовут, напомню, что до меня вы знавали трех Александров Сергеевичей – Пушкина, Грибоедова и Даргомыжского. Теперь уж вы и меня не запамятуете… Я – четвертый. – И без всякой паузы или перехода начинает деловито развязывать свой мешок: – А это подарки… Вашей матушке… вашей благоверной супруге… вашему наследнику…
Из дед-морозовского мешка выползает земляничное мыло в яркой обертке, погремушка на кольце и набор почтовой бумаги с конвертами.
– Маленькие подарки делают большую дружбу, – гудит он, снимая шапку с ушами и разматывая грязно-рыжий шарф. А раздевшись и оглядев меня пристально, тут же переходит на ты: – Да дай, наконец, я тебя обниму!
И обнимает так, что кости трещат. Кажется, вместе с морозным воздухом улицы в приоткрытую дверь ворвался дух бесцеремонного веселья.
Я давно замечал: музам по душе чудаки, бессребреники, шуты и скоморохи – странные существа, не мешающиеся с толпой. Есть в ином человеке дар быстрой импровизации, талантливо-детского, немедленного отклика на всё, который мы зовем непосредственностью. Наверное, чтобы этот житейский талант перенести в искусство, на сцену, нужны еще и огромная собранность, труд, организующий вдохновение, создающий завершенность и форму. Меня всегда занимала проблема существования великих незнаменитостей в окрестностях искусства, людей, много значащих для других артистов, но, как правило, остающихся в глубокой тени кулис. Жестокий, хоть и не лишенный справедливости взгляд: если кого-то не узнала, не заметила публика, значит, и быть посему – пороху не хватило, талант не так велик, чтоб пробиться, в забвение ему и дорога. Но я не раз замечал, что почву театра, сам воздух живого искусства часто создают не увенчанные всеми лаврами и обремененные важностью знаменитости, а люди, для которых «игра» – ежеминутная стихия жизни. Таким был Александр Сергеевич Крынкин.
…Мы сидим с Крынкиным за накрытым столом, он вспоминает что-то смешное, редкостное, темпераментно прерывая меня. Чокаясь, по-детски вскрикивает:
– Ты и эту радость знаешь? А я, вообрази, до пятидесяти лет не восчувствовал… Папенька с маменькой так воспитали – ни рюмки вина, ни понюшки табаку… Теперь, бывает, огорчаюсь: сколько веселья-то пропущено…
Он не дает мне рта раскрыть, а я все хочу сказать ему, что давно знаком с ним.
Было это году в 1950-м, в Пестове, под Москвой. Тогда к этому тихому заповедному месту на большой воде, широко разлившейся на пути канала Москва – Волга, еще не подлетали бесшумные, в водных усах «ракеты», а медленно-медленно, чадя, пыхтя и стуча машиной, тащился едва ль не три часа от Химок крошечный теплоход, носивший имя одного из довоенных героев-летчиков – «Чкалов», «Байдуков» или «Водопьянов». Он подходил к маленькой деревянной пристаньке с голубым навесом на белых столбах и долго чалился за бревенчатый пенек-тумбу.
По мощенной кое-как булыжником и обсаженной старыми березами дороге вы поднимались к бывшему барскому имению, стоявшему некогда на высоком обрыве над излучиной Учи. С конца 30-х годов здесь отдыхали в летнюю пору артисты Художественного театра. Пристань так и называлась тогда: «Дом отдыха МХАТ».