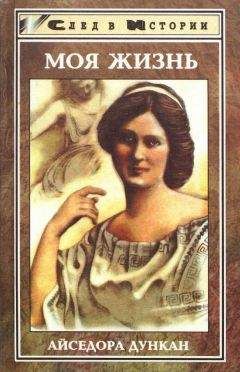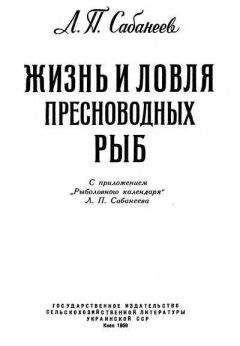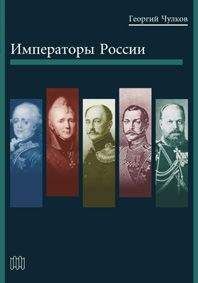Леонид Сабанеев - Воспоминание о России
У меня все-таки создалось впечатление, что, в сущности, дело тут было глубже: что дело шло о ликвидации идеи Мистерии и о ее замене «Предварительным действием», как проектом вполне реальным, хотя тоже достаточно грандиозным и трудноосуществимым. Но Скрябин не хотел сдаваться внешне и продолжал утверждать, что это – только отсрочка. Жизнь решила по-своему. Началась война, и не только мечты о Мистерии, но и о «Предварительном действии» должны были быть отложены. А тут Скрябин внезапно умер от случайного фурункула, что разрешило все затруднения.
Интересно то, что Скрябин, чувствовавший себя «Мессией» или хотя бы пророком и теургом, – в сущности, в качестве такового не имел вовсе последователей. Были в богатом количестве «скрябинисты», очарованные его музыкой, но «скрябиниан» не оказалось. Даже наиболее близкие, интимные люди за ним не шли как за учителем истины. Да он, в сущности, и никого ничему не учил – говорил о всех своих планах в очень тесном кругу, и то очень редко, урывками. Тем не менее эта идея была для него творческим «допингом», который создал его последние творения в музыке. И это уже оправдывает эту мечту.
Дневники Скрябина доказывают, тем не менее, что у него были безусловные способности и склонности к мыслительному пути. В них много интересных мыслей, парадоксальность которых, в общем, не превышает парадоксальности хотя бы высказываний Льва Шестова или Киркегарда, а чаще бывает гораздо скромнее и всегда безусловно логичнее. Я не знаю другого русского композитора, который мог бы с ним в этом деле сравняться. В нем несомненно погиб крупный философ, недоразвившийся и сбитый с толку своими фантазиями и еще больше попавшейся ему на жизненном пути теософией, салонным индуизмом. До этого обращения его философские и эстетические высказывания были совершенно нормальны, законны и порой вовсе не лишены ни интереса, ни научности. Они, в общем, приближались к типу высказываний Ницше и Рихарда Вагнера.
Трагедия Скрябина была в том, что он всем этим занимался по-дилетантски и слишком эгоцентрично – все в применении к самому себе и к своей музыке. В итоге – последней он оказал плохую услугу. Опыт показывает, что «философская» музыка еще менее импонирует, чем философская поэзия. Она отяжеляется навязанным ей философским грузом, органически не укорененным, не претворенным в звуки. Именно от этого последние произведения Скрябина, при всем своем интересе, холоднее и схематичней произведений среднего периода. И вообще надо признать, что философские идеи не высказываемы музыкой – это вовсе не ее область: она может в лучшем случае только вызвать психические состояния, родственные некоторым идеям, – не более того.
Некоторым извинением Скрябину служит то, что, в сущности, у него были в последнее время не столько философские идеи, сколько фантазии, и не столь философские, сколь теософские и даже типа мифотворческих. В конечном счете, «вся идея Мистерии» – это эскиз, не выполненный и не завершенный, некоего грандиозного мифа.
Когда скончался Скрябин, то близкие в нему символисты (главным образом Вяч.
Иванов и Балтрушайтис) пытались спасти дорогой им, именно как символистам, ореол «профетичности» Скрябина.
Через три года после его смерти началась русская революция. В 1920 году мне приходилось слышать от Вяч. Иванова утверждение, что идея мистерии была пророческим предчувствием, войны, революции и большевизма – вообще, некоей великой катастрофы или даже целой эры катастроф, ожидающей человечество, но что в его сознании это предчувствие или ощущение катастрофичности грядущих годов сложилось в облик мистерии, ведущей к уничтожению человечества.
Правда, то, что ему рисовалось, совершенно не похоже на то, что в действительности произошло: вместо «последнего праздника человечества» – военное поражение, гибель прежней России, водворение большевизма, Вторая мировая война.
Но ведь и прежние пророки большей частью предсказывали с такой же неточностью.
РАХМАНИНОВ И СКРЯБИН
Трудно представить себе две натуры столь противоположные, как Рахманинов и Скрябин. Они были почти погодки (Скрябин на два года старше), по рождению принадлежали к одному и тому же военно-интеллигентски-дворянскому кругу, жили в той же Москве, вращались в одном и том же музыкальном мире, учились у тех же профессоров в той же Московской консерватории [047], творчески работали в одной и той же области – оба композиторы и пианисты. И несмотря на все это – всю жизнь они имели очень мало общего друг с другом, очень редко встречались, близки друг с другом не были, и хотя были на «ты», никогда не дружили и их взаимоотношения были корректны, но как-то тревожно настороженны.
Не будем этому удивляться – вспомним, что Толстой никогда не встретился с Достоевским, будучи его современником. Общение двух крупных художников очень часто встречает какую-то трудность и некое препятствие к дружескому сближению.
В консерватории Рахманинов пользовался репутацией сдержанного, скрытного и в себе замкнутого юноши, скорее молчаливого, не искавшего сближения с товарищами, но когда близость получалась, то не было друга более верного и постоянного, чем Рахманинов. У него было мало друзей, но зато дружба была прочная. Скрябина в консерватории товарищи не любили – за заносчивость, за раннее гениальничание – в эпоху, когда еще никакой гениальности не было обнаружено. Сам он относился к товарищам всегда свысока – из друзей его юности я припоминаю только Буюкли, пианиста очень неровного, временами дававшего миги гениальности, но чаще серо-плоского.
Его считали незаконным сыном Николая Рубинштейна, и он в заносчивости не уступал Скрябину, впрочем, соглашался ему уступить «половину мира». Но он был совсем сумасшедший. Скрябин же, верный сын эпохи символистов, – сумасшедшим тогда во всяком случае не был, но он все время носился с грандиозными планами, с соединением всех искусств, с синтезом религии и искусства и т. п. Всю жизнь он стремился как бы выпрыгнуть из своего искусства. Под конец жизни он прямо говорил, что он совсем не хочет, чтобы его считали «только музыкантом», автором разных сонат и симфоний.
По-видимому, он хотел, чтобы его считали или пророком, или мессией, или даже самим богом. Рахманинов никогда не хотел быть ничем кроме как музыкантом, из своего искусства никуда выскакивать не желал, и я сильно подозреваю, что все эти мегаломанические идеи и замашки Скрябина были ему в глубине души просто противны.
Первый отзыв, довольно занятный, Рахманинова о музыке Скрябина я услышал в 1901 году во время репетиции его Первой симфонии, которой дирижировал Сафонов, бывший, между прочим, горячим почитателем Скрябина и весьма недолюбливавший Рахманинова, с которым когда-то не поладил.