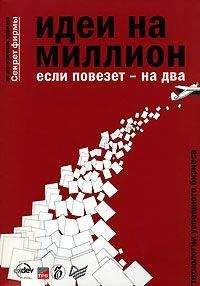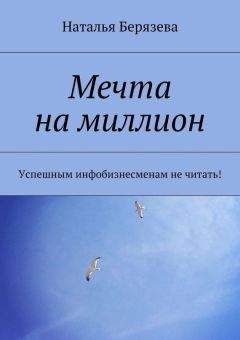Василий Ардаматский - Две дороги
— Я предпочитаю гадюку видеть, — сказал он, — а не наступить на нее в темноте.
Клецу пришлось уступить, но он не мог примириться с тем, что Дружиловский отделается легким испугом, и сам отвез незадачливого агента на товарную станцию, где на запасных путях стоял направляющийся в Варшаву арестантский вагон, и сдал его конвою, строго приказав не оказывать заключенному никаких услуг.
Привыкнув к жиденькому свету, проникавшему сквозь закрашенное бурой краской окно, Дружиловский осмотрелся. Купе как купе в обычном жестком вагоне. Только окно замазано и затянуто изнутри тугой проволочной сеткой, а снаружи на него падает тень решетки. Дверь обита железом и заперта. И все-таки ничего страшного, даже напротив — это было гораздо лучше того, что грозился сделать с ним мерзавец Клец. Здесь в его распоряжении четыре полки, никто не помешает выспаться, не то что в битком набитом вагоне, в котором он ехал когда-то из Петрограда в Москву.
Он сидел на нижней полке в обступившей его глухой тишине, абсолютно не представляя себе, что ждет его в Варшаве. Позже он записал в своем дневнике, вспомнив однажды эту историю: «Я понял тогда одно — от поляков справедливости не жди. Сколько раз я у того же Клеца расписывался в получении денег и видел в ведомости совсем не ту сумму, которую он мне выдавал. И я молчал, я же понимал... А они, гады, какую надо мной подлость проделали...»
Вагон дрогнул и с глухим грохотом покатился. Ожидая, что сейчас кто-нибудь войдет, он принял непринужденную и независимую позу — выпрямился, скрестил руки и закинул ногу на ногу. Его всегда преследовала тревожная забота — не выглядеть смешным. Он носил обувь на высоких каблуках, тщательно следил за своей внешностью и даже за соответственным обстановке выражением лица. Сейчас его лицо выражало холодное презрение. Но никто не пришел, и он расслабился — ничего, придет час, они явятся и не увидят его униженным.
Но все получилось иначе.
Арестантский вагон немилосердно трясло, качало, он гремел, дребезжал, гудел — заснуть никак не удавалось.
Вдруг стало очень холодно, начал болеть живот, и он бросился искать парашу. Лазил внизу под лавками, полез наверх, дрожа от озноба, ничего не нашел. Он стал кричать, бить кулаками в дверь, в стены и затих, согнулся, присел на пол...
Забрался потом с ногами на лавку, свернулся, сжался, закрыв голову пиджаком. Вагон, казалось, трясло все сильнее, и снова схватило живот... Темно... Ничего не видно... Спичек нет... Не сдерживая жалобных стонов, забрался на верхнюю полку и, обессиленный, забылся. Перед ним в зеленом тумане проплывали видения беспечного детства в родном Рогачеве, а то — четко, как на фотографии, — суд в Москве, вернее, один только момент: из зала уводят приговоренных к расстрелу. От ужаса щемило внизу живота...
Очнувшись, он испугался грохочущей темноты. Снова схватило живот... Он смотрел туда, где было окно, и не видел его. Значит, ночь? Но какая? Первая?.. Вторая?..
Кто-то приподнял его за шиворот и встряхнул, светя в лицо фонарем:
— Эй, вставай!
Он вскочил и зажмурился от света, качавшегося перед его лицом.
— Тьфу! Выходи быстрей.
Он рванулся вперед и наткнулся на человека, державшего фонарь. Дверь в коридор вагона была открыта, и там горел свет. Его остановила чья-то сильная рука:
— Спокойно. Пошли!
Качаясь, он шел между двумя людьми, видя только плывущий из-под ног круг света, за пределами которого ему мерещилась пропасть.
Сзади сильно толкнули, и он, как мешок, свалился с площадки вагона на землю. Не чувствуя боли, он встал и, судорожно дыша, огляделся. Еще не совсем рассвело, и все виделось ему как сквозь матовое стекло. Арестантский вагон одиноко стоял возле длинного пакгауза, а там, где кончался путь, чернел полицейский фургон.
В тряской машине его повезли куда-то, он думал — в тюрьму. А его привезли в гарнизонную баню, отдали чемодан и довольно вежливо сказали, чтобы он привел себя в порядок.
В гулком зале крики, хохот, от пара ничего не видно. Он с трудом нашел шайку, налил горячей воды, окунул голову. Какое блаженство, господи!.. Вместе с мыльной пеной с него сходило все пережитое, он странным образом уже меньше тревожился о том, что будет дальше, и по мере того, как становилось легче, приходила уверенность, что самое страшное позади.
Людей, которые привезли его сюда, в раздевалке не было, и никто не обращал на него внимания. Вокруг одни солдаты — бритые головы, красные распаренные тела, бумажные гимнастерки. Он свернул крепким комком загаженную одежду, засунул за шкафчик. Достал из чемодана черные в полоску брюки и серый пиджак, оделся и присел на лавку. Что делать, если конвой не ждет его и на улице? Адрес второго отдела польского генштаба он знал, но сейчас идти туда слишком рано. Решил сначала найти недорогой отель.
Около полудня, чистенький, отглаженный, выбритый, пахнущий крепким одеколоном, он пошел в генштаб. Одним своим видом он хотел сказать, что не так-то легко его затоптать.
Он медленно шел по весенней Варшаве, останавливался, заметил, что варшавянки элегантно одеты, среди них много хорошеньких. Зашел в уютную кондитерскую, выпил хорошего кофе и только потом отправился в свой второй отдел.
В сумрачном вестибюле он представился дежурному офицеру, и тот, окинув его взглядом, немедленно доложил о нем кому-то по телефону и объяснил, куда следует пройти.
Перед нужной дверью он остановился, внимательно оглядел себя, пригладил усики, поправил манжеты и галстук и вошел решительно и даже нахально — это он продумал заранее.
— Моя фамилия Дружиловский, — сказал он с достоинством, подойдя к столу, за которым сидел щуплый человек в черном костюме.
— Я знаю. С приездом в Варшаву. Садитесь... — произнес сидевший за столом. — Как доехали?
Дружиловский не ответил. Только посмотрел специально отработанным взглядом, выражавшим равнодушное презрение.
— Что же касается вашей работы — два-три дня надо подождать, — продолжал господин в черном. — Майор Братковский вернется из Риги в начале будущей недели, и вы снова будете работать с ним. А пока отдыхайте, знакомьтесь с нашей столицей... — сухое лицо господина в черном перерезала пополам улыбка широкого рта. — Варшавянки, как всегда, прелестны. Майор Братковский распорядился выдать вам денег, вы получите их в соседней комнате.
В начале следующей недели Дружиловский пришел к Братковскому в его служебный кабинет и поразился — никогда бы не подумал, что этот каменнолицый истукан может стать вдруг совсем другим.
— Здравствуйте, здравствуйте. Садитесь. Ну, как вам в нашей Варшаве? — спросил Братковский, и Дружиловский в первый раз увидел на его лице улыбку.