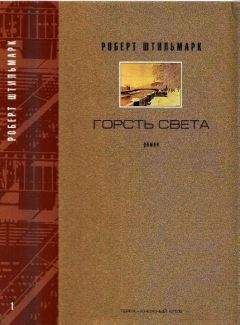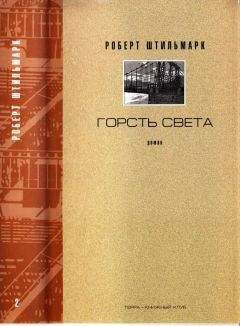Жан-Луи Тьерио - Штауффенберг. Герой операции «Валькирия»
Но главное было не в этом. В 1933 году зверство, смерть и кровь были в порядке вещей. Со времени окончания Первой мировой войны прошло всего пятнадцать лет. Она повсюду оставила свои отпечатки. На улицах инвалиды, калеки, перекошенные и опухшие лица, наподобие Отто Дикса, напоминали о том, что плоть создана как для пушек, так и для любви. В условиях ада современной войны жизнь не стоила ничего, ее беспощадно убивали лавины огня и железа. Те, кому в 1914 году было двадцать лет, гибли на фронтах. Они же и убивали. Прочтите Ремарка или Юнгера, они пишут об одном и том же. У людей появилась привычка выпускать таким же людям кишки с помощью гранаты, штыка или тесака. После нескольких месяцев было уже все равно: перерезать ли горло часовому или какой-нибудь косуле после охоты. В книге «Война как внутреннее переживание» Эрнст Юнгер очень хорошо передает состояние умов того траншейного поколения, «чей атакующий порыв разметает по ветру, как осенние листья, все ценности этого мира». Это, пишет он, «новое человечество, солдат-гренадер, элита Центральной Европы. Совершенно новая раса, умная, сильная, полная воли […]. Эта война не была финалом насилия, она стала его прелюдией». Для понимания того, что раздирало Европу с 1920 по 1930 год, не будем забывать этот важнейший фактор. Ставшие взрослыми людьми, достигнув сорокалетнего возраста в 1933 году, они прошли школу Верденской мясорубки или битвы на Сомме. Они принимали смерть или несли ее, все четыре года жили в условиях варварства. Для Германии это было еще более верно, чем для других стран, потому что она испытала позор поражения, пережила гражданскую войну, где добровольцы на Востоке не имели никакого контроля.
Штауффенберг войны не знал. Но готовился к ней. Рассказы, книги, воспоминания родных, разговоры в казарме, версальский диктат. Все это было связано с войной. Все к ней же и возвращалось. Его мир был полон насилия. Поэтому насилие со стороны нацистов не должно было слишком сильно шокировать его, особенно если оно казалось ответом на грубое насилие со стороны большевиков.
И наконец, сердцевиной молчаливого признания были глубоко укоренившиеся в мозгу этого высокообразованного офицера идеализация жизни, ее доведенная до крайности поэтизация, презрение к конкретности, борьба с реальностью, словом некая разновидность высокомерной аполитичности. Это толкование дал нам Иоахим Фест, раскрыв его в монументальной биографии Гитлера[49]: все основывалось на «презрении к реальной жизни, сопровождавшемся все более откровенным презрением к политике […], бывшей реальностью в самом прямом и самом навязчивом смысле слова: частью чего-то вульгарного, "доминирования посредственностей", как название одной известной книги двадцатых годов». При этом Фест процитировал среди прочих Томаса Манна[50] и Вагнера. Первый в своей работе «Размышления аполитичного человека» защищает немецкое братство от «терроризма рационалистской западной политики» и уже самим названием книги объявляет «свою романтическую цель, далекую от реальности, и традиционную ностальгию об аполитичной политике». Второй зашел еще дальше, написав Францу Листу, что «человек, занимающийся политикой, отвратителен» и что во имя «царской и артистической личности» индивидуума он под удары цимбал предсказывает «смерть политики и пришествие человечности». Столкнувшись с трагедиями послевоенного периода, немецкие мыслители спрятались «в выдуманный ими мир эстетики и мифологии». Теории «Кинжала», международного еврейского, капиталистического, коммунистического или масонского заговоров отражают все тот же интеллектуальный уклон, «бегство от реальности в выдуманный мир романтических категорий предательства, одиночества и притворного величия». Клаус был идеальной жертвой такой промывки мозгов. Знаменитая речь Гитлера в Потсдаме не могла не тронуть его сердце: «Германия, истерзанная, раздробленная, обескураженная, со сломленной волей, теряет всю энергию для налаживания своей жизни […]. Эта нация певцов, поэтов и мыслителей мечтала о другом мире, и потребовалось, чтобы трудности и нищета обрушились на нее с нечеловеческой силой, чтобы в ней проснулась тайная ностальгия о новом возвышении, о новой империи, а также о новой жизни». Слова, одни слова, искусство, опять искусство. Клаус хотел стать архитектором. Как он мог не поддаться этому призыву Гитлера, который вместе со Шпеером мечтал возводить соборы новой империи: «И если сегодня Господь делает воинами поэтов и певцов, он также делает воинами и архитекторов, которые постараются оставить свой неизгладимый след в этих сооружениях высокого искусства, которых еще не знала история. Это государство не должно быть державой без культуры, силой без красоты»[51]. Залитые светом соборы Нюрнберга тоже участвовали в этом движении: «Волшебные стены […] против внешнего темного и грозного мира». Заканчивая с Иоахимом Фестом, «то, что Гитлер снова придал политике тон глубокой фатальности, примешав туда элемент дрожи, позволил ему срывать овации и привлечь сторонников даже из среды тех, кто не разделял ни его стремление к захвату жизненного пространства, ни его антисемитизм, ни свойственные ему вульгарность и грубость». Несмотря на свои прочные моральные и эстетические взгляды, Штауффенберг пал, став жертвой «эстетического подхода к политике»[52], разоблаченного философом Вальтером Бенжамином.
На службе Великой Германии, преданность и первые сомнения
Для патриота это было тем более легко, что в первые годы нацизма Гитлер с завидной легкостью одерживал одну победу за другой. В 1935 году Саарская область вновь вошла в состав рейха, вновь была введена всеобщая воинская повинность, создан новый вермахт. В 1936 году состоялась оккупация левого берега Рейна, бывшего демилитаризованной зоной по Версальскому договору. В 1938 году произошел аншлюс Австрии без единого выстрела, вызвавший лишь дипломатическую болтовню без серьезных последствий. В экономике он тоже пожинал лавры. Тяжелая промышленность стала развиваться неимоверно быстрыми темпами, индекс поднялся с 46 в 1932 году до 143 в 1939 году. Индекс производства средств потребления подпрыгнул с отметки 78 до 112. Главный бич послевоенной Германии, безработица, казалось, тоже была побеждена: в 1932 году было 6 миллионов безработных, а в 1937 году их было всего 1 миллион. И хотя эти успехи были обманчивыми, так как они являлись результатом ориентации всей экономики на нужды войны, это ничего не меняло. Германия сияла силой и молодостью в образе тех «богов стадиона», которые побеждали на Олимпийских играх 1936 года в Берлине.