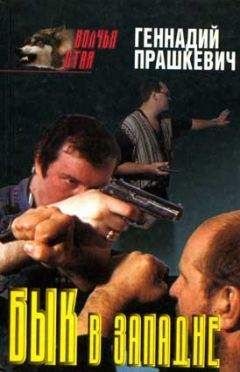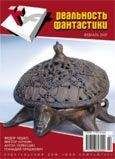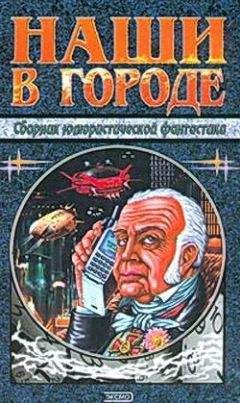Геннадий Прашкевич - Станислав Лем
Второй проблемой “Эдема” должно было стать положение людей, которые, случайно и помимо своей воли вторгнувшись в чужой мир, могут понять только то, что хоть каким-то образом напоминает им дела и проблемы земные. В таком аспекте можно было наделить проблему как бы двумя сторонами: с одной стороны, человек, доискивающийся в сфере чужой, действительно совершенно чужой культуры явлений, подобных земным, а с другой — вопрос вмешательства либо воздержания от такого вмешательства в область чужой культуры. Первый аспект можно назвать познавательным, второй, хотя на первый взгляд он кажется производным (ибо нельзя действовать, не понимая), скорее всего, этическим. Оба этих аспекта, но по-иному, я позже вновь поднял в романе “Солярис” — там это именуется “проблемой контакта”. Так вот, в романе “Эдем” меня сегодня не удовлетворяет (помимо чересчур разбавленной, недоработанной стилистики) изображение чужой цивилизации, поскольку она слишком одномерна, слишком плоска. Двигаясь по линии наименьшего сопротивления, я основной упор сделал на биологические особенности иных разумных существ — грех, который я делю с очень многими фантастами. А ведь известно, что подобные существа как бы редуцируют в своём биологизме, когда создают развитую цивилизацию, поскольку на первый план в этом случае выдвигается homo socialis, а не homo biologicus.
Разумеется, у этой проблемы (превращения индивида из биологического в общественный) могут быть свои тупики, отклонения, когда общественный строй становится разновидностью молоха, формирующего единицы в соответствии со своими закономерностями. В земном измерении такое явление носит название альенации[31]; в своё время генетические источники и общественные двигатели её анализировал ещё Карл Маркс…»
Но были у нового метода и преимущества.
Метод, разработанный Станиславом Лемом, позволял писателю оставаться совершенно свободным в выборе любых объектов описания и, разумеется, в самих описаниях. «Внешний вид жителей Эдема, — вспоминал позже Лем, — вырисовывался постепенно. Вначале он виделся неясно, к тому же был “мёртвым” (в начале романа герои натыкаются не на живых обитателей планеты, а на их захоронения. — Г. П., В. Б.). Понемногу я уточнял подробности, всё время заботясь о том, чтобы не впасть в какой-либо род антропоморфизма, причём — именно это я хочу подчеркнуть — я действительно тогда был свободен. Гипотезы о том, как может функционировать сконструированное мною удивительное существо как биологический организм, герои книги стали выдвигать гораздо позже, — иначе говоря, я действовал через них, максимально подстраивая биологические данные к той внешности, которую создал»{51}.
Что касается антропоморфизма, то да — двутелы Эдема сильно отличаются от людей, но вот психология их, «политическая» и «общественная» система отношений не очень далеко ушли от земных вариантов. Не в первый раз некая разумная цивилизация, слишком увлёкшаяся генетическими новациями, попадает в ловушку собственных жутких результатов. «Экземплификация самоуправляемой прокрустики»… «Биосоциозамыкание»… «Гневисть»… Эти странные термины из беседы землян с двутелом воспринимаются скорее на уровне интуиции…
10
«Эдем» — далеко отстоит от «Астронавтов» и «Магелланова облака».
Многие иллюзии оставлены. Лем, как всякий поляк, остро чувствовал несправедливость. Выступление Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС не сняло политической напряжённости, она сказывалась во всём. В эпизодах «Эдема», посвященных совещаниям и собраниям экипажа корабля, явственно чувствуется атмосфера пятидесятых. К тому же в романе слишком многое держится на загадках. Сплошные загадки, цепь загадок, следующих одна за другой, мерное, мощное нагнетание непонятного, угрожающего, страшного. Это тоже типичная атмосфера пятидесятых: надеяться только на себя. Экипаж звездолёта, потерпевшего аварию, тоже может надеяться только на себя. А страшные загадки бесчисленно множатся. Вот странные захоронения… Вот странные трупы… Вот непонятный, сам по себе работающий завод и поразительные самодвижущиеся диски…
Наконец, сами обитатели планеты Эдем…
«Словно из гигантской веретенообразно вытянутой устрицы, из толстой складчатой мясистой сумки высунулось маленькое — не больше детского — двурукое туловище. От собственной тяжести оно осело вниз, коснулось пола узловатыми пальчиками, раскачиваясь всё медленнее и медленнее на растягивающихся перепонках бледно-жёлтых связок, пока, наконец, совсем не замерло. Доктор первым отважился подойти к нему и подхватил мягкую многосуставчатую конечность. Маленький торс, исчерченный бледными прожилками, выпрямился, и все увидели плоское безглазое личико с зияющими ноздрями и чем-то разодранным, похожим на покусанный язык, в том месте, где у людей находится рот…»
«Чем эта книга («Эдем». — Г. П., В. Б.) могла стать, — писал Станислав Лем, — я понял только много времени спустя после того, как она была окончена. В ходе развития сюжета, когда мои герои изучали неизвестную планету и её таинственную цивилизацию, каждая экспедиция была одновременно и моим собственным приключением, моим собственным походом в незнаемое. Таким образом, я сначала выдумал загадочную “фабрику” в пустыне, потом первую вооружённую стычку с представителями иной расы разумных существ, причём каждая такая ситуация возникала, как бы вытянутая силой, вырванная из небытия, — наверное, по тем же законам, по которым возникают ситуации снов. Это вовсе не значит, будто я писал в каком-то трансе, ничего подобного; я лишь пытаюсь подчеркнуть, что я не знал ничего, или почти ничего, о том, что должно было произойти, что должно было появиться через минуту. Причём одним из постулатов действия, в постоянном присутствии которого я лучше всего отдаю себе отчёт, было ощущение, что описываемое должно быть “нечеловеческим”, “иным”, чуждым всему объёму жизненного опыта моих героев. Поэтому, создавая различные декорации для их экспедиций, я следил за тем, чтобы ни один из героев, — будучи интеллектуально полноценным, — не был в состоянии уразуметь, что, собственно, перед его глазами происходит. Это положение, довольно туманное, позволило создать некий неизвестный мир. Он возникал из разрозненных элементов, и я совсем не заботился о том, чтобы элементы эти с самого начала были как-то связаны друг с другом, объясняли друг друга. И лишь после того, как таких “загадочностей” нагромоздилось достаточно много, я принялся посредством бесед, открытий, гипотез моих героев — догадываться, на равных с ними правах, каково было значение, механизм увиденного на чужой планете. Тут оказалось, что есть такие гипотезы, с помощью которых возможно объединить все сведения и разрозненные факты в достаточно осмысленное целое. Однако, я подчёркиваю, мне пришлось самому додумываться до этого, я толком не знал заранее, каков будет смысл целого, которое возникло как бы самостоятельно. Кроме директивы, уже названной мною, что всё должно было быть “иначе, чем на Земле”, действовала и другая. “Инаковость” должна была обладать свойствами какой-то угрозы, таинственности, а кроме того, по крайней мере местами, напоминать, хотя бы очень отдалённо, что-то земное. Так, например, большие “диски”, на которых перемещаются с места на место обитатели Эдема, я придумал потому, что каким-то средством передвижения должны же были всё-таки располагать жители цивилизованного мира. Однако я тут же ситуацию запутал, усложнил, сделал так, что “диски” одновременно совершали некую загадочную операцию, которая в восприятии землян связывалась с засыпанием массовой могилы. Такое я использовал и далее, исходя из соображений в значительной степени формальных, так как чувствовал, что описаний столь сложных, длинных, но “ни на что не похожих” объектов, как, скажем, фабрика в пустыне, — нельзя давать в чрезмерных количествах. Иначе читатель перестаёт понимать происходящее…»{52}