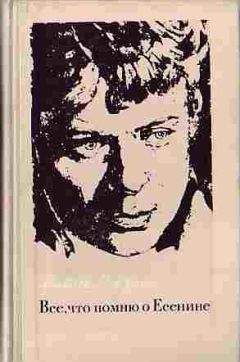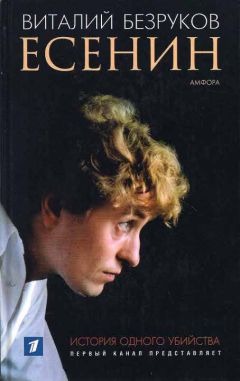Антология - Живой Есенин
А булыжники, которые он поливает, начинают дымиться наново раньше, чем он дойдет до конца своей мостовой, длиной в десяток сажен.
Я с Никритиной возвращался с бегов.
Как по клавишам рояля, били по камню подковы рысака. Никритина еще ни разу не была у нас в доме. Я долго уговаривал, просил, соблазнял необыкновенным кулинарным искусством Эмилии.
А когда она согласилась, одним легким духом взбежал три этажа и вонзил палец в звонок. Вонзив же, забыл вытащить. Обалдевший звонок горланил так же громко, как мое сердце.
Когда распахнулась дверь и на меня глянули удивленные, перепуганные и любопытные глаза Эмилии, я мгновенно изобрел от них прикрытие и прозрачную ложь:
– Умираю от голода! есть! есть! е…
В коридоре мешки с мукой, кишмишем, рисом и урюком.
Влетел в комнату. Чемоданы, корзины, мешки.
– Сергей Александрович приехали… вас побежали искать…
Я по-ребячьи запрыгал, по-ребячьи захлопал в ладоши, по-ребячьи уцепил Никритину за ладони.
А из них по капелькам вытекала теплота.
В окно било солнце, не по-весеннему жаркое.
– Я пойду…
И она высвободила из моих пальцев две маленькие враждебные льдинки.
Я проводил ее до дому. Прощаясь, ловил взгляд и не мог поймать – попадались стиснутые брови и ресницы, волочащиеся по щекам, как мохры старомодной длинной юбки.
Есенина нашел в «Стойле Пегаса».
И почему-то, обнимая его, я тоже прятал глаза.
Вечером Почем-Соль сетовал:
– Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем… Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал… я, можно сказать, гроза там… центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с Левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли…
Есенин нагибается к моему уху:
– По двенадцати!..
– Перед поэтишками тамошними мэтром ходит… деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил… с урючниками до седьмого пота торгуется… И какая же, можно сказать, я после этого – гроза… уполномоченный…
– Скажи, пожалуйста, «урюк, мука, кишмиш»!.. А то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, в вечность ввожу… а он – «урюк! урюк!»…
При слове «вечность» замирали слова на губах Почем-Соли, и сам он начинал светиться ласково, тепло, умиротворенно, как в глухом слякотном пензенском переулке окошечко под кисейным ламбрекенчиком, озаренное керосиновой лампой с абажуром из розового стекла, похожим на выкрахмаленную нижнюю юбку провинциальной франтихи.
42
Когда Никритина уезжала в Киев, из какой-то ласковой и теплой стесненности и смешной неудоби я не решился проводить ее на вокзал.
Она жила в Газетном переулке. Путь к Брянскому шел по Никитской мимо нашей книжной лавки.
Поезд уходил часа в три. Боясь опоздать, с половины одиннадцатого я стал собираться в магазин. Обычно никогда не приходили мы раньше двух. А в лето «Пугачева» и «Заговора» заглядывали на часок после обеда и то не каждый день.
Есенин удивился:
– Одурел… в такую рань…
– Сегодня день бойкий…
Уставившись на меня, ехидно спрашивал:
– Торговать, значит?.. Ну, иди, иди, поторгуй.
И сам отправился со мной для проверки.
А как заявились, уселся я у окна и заерзал глазами по стеклу.
Когда заходил покупатель, Есенин тыкал меня локтем в бок:
– Торгуй!.. торгуй…
Я смотрел на него жалостливо.
А он:
– Достаньте, Анатолий Борисович, с верхней полки Шеллера-Михайлова.
Проклятый писателишко написал назло мне томов пятьдесят. Я скалил зубы и на покупателя, и на Есенина. А на зловредное обращение ко мне на «вы» и «с именем-отчеством» отвечал с дрожью в голосе:
– Товарищ Есенин.
И вот: когда стоял на лесенке, балансируя кипою ростом в полтора аршина, увидел в окошко, сквозь серебряный кипень пыли, извозчика и в ногах у него знакомую мне корзиночку.
Трудно балансировать в таком положении. А на извозчичьем сиденье беленькая гамлетка, кофточка из батиста с галстучком и коричневая юбочка. Будто не актриса эстетствующего в Гофмане, Клоделе и Уайльде театра, а гимназисточка класса шестого ехала на каникулы в тихий Миргород.
Тут уж не от меня, а от судьбы – месть за то, что был Есенин неумолим и каменносердечен.
Вся полуторааршинная горка Шеллера-Михайлова низверглась вниз, тарабаря по есенинскому затылку жесткими «нивскими» переплетами.
Я же пробкой от сельтерской вылетел из магазина, навсегда обнажив сердце для каверзнейших стрел и ядовитейших шпилек.
43
На лето остались в Москве. Есенин работал над «Пугачевым», я – над «Заговором дураков». Чтоб моркотно не было, от безалабери, до обеда закрыли наши двери и для друзей, и для есенинских подруг. У входа даже соответствующую вывесили записку.
А на тех, для кого записка наша была не указом, спускали Эмилию.
Она хоть за ляжки и не хватала, но цербером была знаменитым.
Материал для своих исторических поэм я черпал из двух-трех старых книжонок, Есенин – из академического Пушкина.
Кроме «Истории Пугачевского бунта» и «Капитанской дочки», так почти ничего Есенин и не прочел, а когда начинала грызть совесть, успокаивал себя тем, что Покровский все равно лучше Пушкина не напишет. Меня же частенько уговаривал приналечь на «Ледяной дом».
Я люблю есенинского «Пугачева». Есенин умудрился написать с чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры и отнюдь не лирическую тему.
Поэма Есенина вроде тех старинных православных иконок, на которых образописцы изображали бога отдыхающим после сотворения мира на полатях под лоскутным одеялом.
А на полу рисовали снятые валенки. Сам же бог – рыжебородый новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками.
Петр I предавал такие иконы сожжению как противные вере. Римские папы и кардиналы лучше его чувствовали искусство. На иконах в соборах Италии – святые щеголяют модами эпохи Возрождения.
Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас: Коненков, Мейерхольд, Густав Шпет, Якулов. После чтения Мейерхольд стал говорить о постановке «Пугачева» и «Заговора» у себя в театре.
– А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, – обратился Мейерхольд к Коненкову, – он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет.
У Коненкова вкось пошли глаза:
– Кого?
– Я говорю, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных…
– Болванов?
И Коненков так стукнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими брызгами.
– Статуи… из дерева… Сергей Тимофеевич…
– Для балагана вашего.