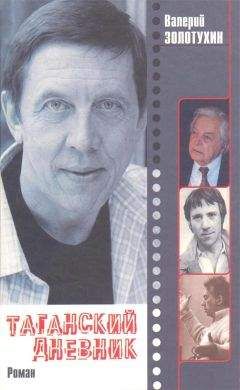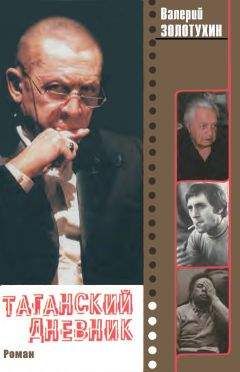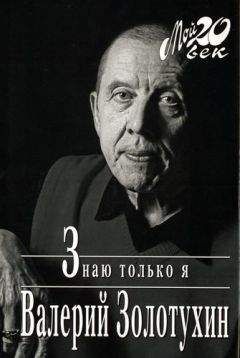Анатолий Эфрос - Профессия: режиссер
Метод Чехова иной, чем у Эсхила, но вряд ли стоит решать, кто из них лучше.
Станиславский подробно рисует портрет солдата, имя которому Яго. Яго спит в одной палатке с Отелло, он любимец других солдат, ибо умеет петь, и пить, и шуметь, когда надо. Он притом храбр и честен (в том смысле, что не ворует). Он может жестоко казнить врага, но мог бы и нянчить ребенка Отелло и Дездемоны. В нем есть то, о чем знают все, за что боятся его или любят. Но есть и некая тайность, которую в нем даже жена не может постичь. Это — тайная злобность — и мстительность.
Он обижен, что лейтенантом назначен не он. Теперь, обидевшись, он вспоминает о старой сплетне, будто Отелло был близок с его женой. Он оскорблен еще и тем, что от него было скрыто похищение Дездемоны.
Все это верный портрет не только солдата по имени Яго, но и целого сорта людей.
Я читаю этот разбор и соглашаюсь, пожалуй, с каждой буквой, и все же сегодня мне хочется постичь какие-то более общие вещи.
Конечно, все это случилось от обиды, что лейтенантом назначили не его. Это так. А что, если бы назначили?
Пожалуй, нашел бы другую отправную точку, чтобы возвыситься, чтобы унизить, чтобы замучить, чтобы уничтожить!
И все из-за презрения к другому, к непохожему, тем более что этот непохожий — высок душой.
Я видел, как однажды какой-то человек гулял с собакой. Из подъезда вышел старичок, на вид довольно добрый, взглянул на собачонку — и «превратился в жабу».
Каких только слов он не находил, чтобы оскорбить гуляющих. Он искренне не понимал любви к собаке. Ему эта любовь казалась баловством зажравшихся людей. Ему не только не хотелось любоваться на собачку — она была противна ему. И ее хозяин был противен уж за одно то, что гулял с собакой. Привычки, вкусы, настроения старика были иными. И в круг этих привычек собака не входила. Он так кричал, что мне казалось — мог бы и убить, во всяком случае собаку, а впрочем, мог бы ударить и того, кто с ней гулял. Он их не понимал, они были другие, и потому он ненавидел.
Или идет по улице низенькая толстушка. С корзинкой. Навстречу женщина в красивой юбке, в модной кофте. И вот толстушка свирепеет и наливается какой-то черной злобой. Она живет другой жизнью, и это уже является причиной для ненависти.
Но от таких примеров можно подойти к другим. Когда не любят черного, считая, что этот черный — грязный. А между тем он может быть кристально чистым, нежным, поэтичным, но для того, другого, он только грязный.
Для Яго, конечно, не расовые предрассудки — основа ненависти. Основа в том, что тот, другой, — другой, чужой, и этого достаточно.
Туда и «чернота» войдет, и Дездемона, и то, что я — солдат, а он — генерал (хотя могло быть все наоборот), туда войдет и то, что приближен Кассио, а не я, и всё на свете.
Другой, чужой, мне непонятный, нет, понятный, но не такой, как я, который думает, что может мною управлять, но управлять всем буду я, все будет так, как я хочу, а если нет — я лопну, разорвусь, задохнусь!
Мне безразличны все, мне хорошо тогда, когда им плохо!
Я помню, что видел когда-то весьма интеллигентного Яго. Вероятно, это заставило меня предположить, что Яго должен быть совсем не интеллигентным, грубым. Чтобы не было этакого театрального интриганства, а чтобы было глубокое несходство натур — возвышенной у Отелло и низменной у Яго. И чтобы ненависть исходила от жестокой натуры Яго. Одним словом, я предполагал дать в этом образе нечто зверское, бандитское, низкое.
А в Отелло, думал я, пускай будет даже элемент утонченности. Есть такие люди с врожденным внешним и внутренним изяществом. Есть такие белые, есть такие негры, и в них это изящество иногда особенно пленительно. Но Яго со своей бандитской натурой должен ненавидеть как раз само это изящество, оно ему в корне чуждо.
Однако, теперь уже заканчивая работу, я вижу, что Яго будет чересчур однобок, имея одну только эту краску. Да, Яго, конечно, бандит, но, может быть, почти весь спектакль нужно проводить на мягкой улыбке, причем не притворной. Нужно очень скромно играть, нигде не обнажать интригу больше, чем необходимо. Мы часто ждем несчастья от какого-то злодея, а земной шар подрывает некий тихоня, у которого ненависть не в кулаках, не в сжатых зубах, а где-то в лимфатических узлах. И она столь велика, что достаточно даже малейшего ее проявления, чтобы сокрушить мир.
«Хоть на войне я убивал людей, убийство в мирной жизни преступленье. Так я смотрю».
Эти слова так и тянет сказать лживо, ибо Яго ведь врет. Однако Отелло верит ему, и другие верят, видя в нем человека мирного, для которого злодей — отец Дездемоны, оскорбляющий мавра. Брабанцио злодей, и он, Яго, с болью слушает, как оскорбляют его генерала. А все это, разумеется, можно сыграть лицемерно, то есть давая понять, что Яго иной, чем сам представляет себя другим людям. Но сложность и жизненная правда тут возникает тогда, когда эта ложь станет такой привычкой, о которой всегда говорят, что она вторая натура, как, быть может, у шпионов, о которых только лет через двадцать узнают, кем они были.
Это, возможно, создаст объем, глубину, новизну трактовки. Ибо, наверное, все трактовки не новы, кроме такой, которая тем нова, что объемна, сложна. Достичь подобной игры можно, пожалуй, только в мечтах. И тут я виню не столько актеров; сколько себя, ибо часто объемные мысли приходят, когда близка уже премьера.
* * *Какая все-таки хорошая мысль — поставить Чехова на Таганке. В театре, где Чехов, кажется, немыслим. Где всегда голые кирпичные стены, а артисты по-брехтовски показывают своих героев.
Может быть, верно, что истину надо искать только в контрастах. Комедию Гоголя надо ставить трагически, тогда она будет смешна. Брехта надо ставить «по-чеховски», без насмешливого брехтовского тона. Кстати, Брехт на Таганке был в свое время поставлен по-русски, оттого, может быть, так заиграл. А «Вишневый сад» надо ставить в театре, где меньше всего знают толк в «чеховском тоне».
Может быть, такое время — по протоптанной дорожке не придешь никуда?
Демидова — Раневская и Высоцкий — Лопахин — это теоретически уже хорошо. А еще пригласить оформить спектакль не Боровского, чья эстетика насквозь «таганковская», а Левенталя, да-да, оперного Левенталя, и пускай он придумает что-то именно на Таганке.
Как будет интересно, когда макет Левенталя станут принимать Любимов и Боровский.
Это, по-моему, будет хорошо, когда показная стихия таганковских актеров ворвется на репетиции в эту нежную ткань. Только притом надо, чтобы была эта нежная ткань, чтобы была эта боль, а тогда пусть будет и таганковский Гаев и таганковская Шарлотта. Может быть, и получится чеховский «психологический балаган».