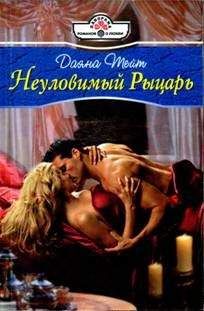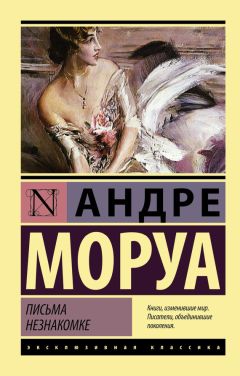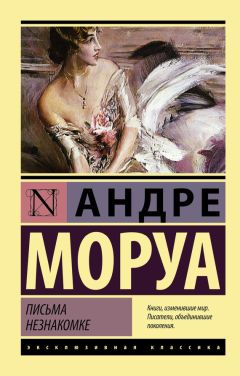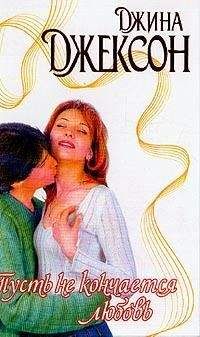Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста
Пруст госпоже Строс. "Господин Франс по просьбе господина Лабори хотел бы, чтобы несколько видных личностей подписали приветствие Пикару, поскольку господин Лабори надеется, что оно могло бы произвести впечатление на судей. Для этого нужны новые имена. И я пообещал господину Франсу обратиться к вам по поводу господина д'Осонвиля, которому, впрочем, вы вполне можете сказать, что это просьба самого Франса. Приветствие нарочно будет составлено в выражениях столь умеренных, что ничуть не вовлечет подписавших его в само Дело Дрейфуса. И господин д'Осонвиль, у которого столько сердца, столько душевного благородства, быть может, не откажет вам. И господин Франс, как и все, полагает, что его имя имело бы огромное значение для будущего -не Дела, но Пикара, которое, похоже, гораздо более мрачно. Я говорю о его будущем, поскольку для него оно так очевидно, что это вызывает у Франса, обычно более отстраненного, растроганные интонации..."
На одном вечере у издателя Шарпантье Луи де Робер представил Пруста герою этого собрания, полковнику Пикару. Когда тот был заключен в Мон-Валерьен, Марсель передал ему, не без трудностей, свои "Забавы и дни". Он примкнул к защите Дрейфуса со страстью, что требовало от него тем больше душевного мужества, что его позиция должна была рассорить его с большим количеством светских людей, дружбой с которыми он, казалось, так сильно дорожил. В итоге он проявил себя не столько снобом, сколько человеком справедливым и слишком умным, чтобы терпеть вопиющую анти-дрейфусарскую глупость. Он торжествовал, когда разразились громкие театральные эффекты этой драмы. Пруст госпоже Строс. "Я не видел вас с тех пор, как Дело из бальзаковского (Бертюлюс - следователь из "Блеска и нищеты куртизанок", Кристиан Эстергази - провинциальный племянник из "Утраченных иллюзий", Пати де Клам - Растиньяк, назначающий свидание Вотрену в отдаленном предместье) стало совсем шекспировским, с нагромождением стремительных развязок..."
Эта борьба, которую он вел вместе с Анатолем Франсом, сплотила их на время сражений. "Нет другой дружбы, кроме политической". Марсель писал Франсу, восхваляя его позицию; никогда он так не восхищался им, как в этой новой роли защитника невиновных:
"Мэтр,
Я желаю вам доброго года и доброго здоровья. Впрочем, никакой другой год не был так прекрасен для вас, как тот, который только что завершился. "Именно тогда Александра и прозвали Великим..." Мужество, которое вы столь благородно воспели, ни у кого не достигало такой высокой степени, как у вас, и вам незачем больше завидовать греческому трагику в том, что он познал иные, не литературные победы. И в самом деле, вы вмешались в политическую жизнь таким образом, какой не был известен в этом веке, ни как Шатобриан, ни как Баррес, не ради того, чтобы создать себе имя, поскольку оно и так у вас уже было, но чтобы склонить им чашу весов Правосудия. Я не нуждался в этом, чтобы восхищаться вами как человеком справедливым, храбрым и добрым. Поскольку я любил вас, я знал все, что в вас было. Но для других это выявило в вас нечто такое, чего они прежде не знали и чем восхищаются теперь так же, как прозой "Таис", потому что это столь же благородно, совершенно гармонично и прекрасно..." [89]
Но самой неизменной его наперсницей во всем, что касалось Дела, была собственная мать, сполна разделившая с ним и его чувства, и его веру. Мать и сын наблюдали за друзьями и случайными встречными, пытаясь, подобно Блоку в романе, угадать сквозь недомолвки их истинные мнения. Находясь в 1899 году в Эвиане, в "Сплендид-отеле" вместе с графом и графиней д'Э, Марсель Пруст отнесся к ним с точки зрения Дела, но описал как романист:
Пруст госпоже Адриен Пруст: "Эти д'Э выглядят людьми добропорядочными, очень простыми, хотя я подчеркнуто сохраняю шляпу на голове и неподвижность в их присутствии. "Холоден после Рен-на".[90] Оказавшись вместе со стариком перед дверью, в которую первым должен был пройти либо один, либо другой, я посторонился. И он прошел, но сняв шляпу и глубоко поклонившись, не высокомерно, и не как д'Осонвиль, но как славный, очень вежливый старичок; мне так не кланялся никто из тех, кому я так же уступал дорогу; они, "простые буржуа", проходят прямые, будто принцы..."
"Молодой Галан представил меня двоим госпожам Ланглуа, весьма безобразным и похожим друг на друга до того, что можно спутать, которые, решив не заикаться о Деле, позволили булькать на поверхности беседы поднимавшимся со дна (как чувствовалось, необычайно илистого) всяким: "О! Форэн так восхитительно отделал их в... Тсс..." - "О! Феликс Фор - это был патриот. Ах! Будь он жив!.." - "Не будем говорить о стенограммах! Когда этим летом они появились в "Фигаро" там в каждой строчке была ложь..."[91]
Но в то время, когда многие дрейфусары позволяли Делу окрашивать все их суждения и становились неспособными к справедливости и даже к состраданию в отношении своих противников, Марсель Пруст всегда сохранял меру и рассудок. Он не порвал с братьями Доде. В 1901 году, когда настала пора реабилитации, он был счастлив видеть, что жизнь для Дрейфуса и Пикара "преобразилась, как в волшебной сказке или в романе с продолжением", но его чувствительности не понравилось, когда Барту, "дрейфусар без году неделя*5 оскорбил генерала Мерсье:
Пруст графине де Ноай: "Это было бы невероятно смешно, если бы в газете не написали: "Генерал Мерсье, очень бледный... генерал Мерсье, еще более бледный..." Читать такое ужасно, потому что даже в самом злом человеке есть бедная, ни в чем не повинная кляча, которая тянет лямку, сердце, печень, артерии, в которых нет никакой злобы, и которые страдают. И час самых прекрасных триумфов бывает испорчен, потому что всегда остается кто-то, кто страдает..."
И, хотя во время Дела он столкнулся с открытой враждебностью - не Церкви, но некоторых конгрегации, он пылко и находчиво защищал в "Фигаро" те церкви, которым проект Бриана грозил упразднением. Друзьям, приверженцам единой школы, поскольку они полагали, что она поможет единению Франции, и хотели обезопасить себя от возврата несправедливостей, подобных делу Дрейфуса, он писал, что, если бы считал единую школу способной уничтожить зерна ненависти, то отнесся бы к ней благосклонно; но он уверен, что, стоит католицизму угаснуть (если такое вообще возможно), как появятся неверующие клерикалы - тем более яростные антисемиты и антилибералы, впрочем, в сто раз худшие. Он заключал твердо:
"...Век Карлейля, Рескина, Толстого, будь он даже веком Гюго, веком Ренана (и я уж не говорю, что, быть может, он станет когда-нибудь веком Ламартина или Шатобриана) - это не антирелигиозный век. Даже Бодлер держится за Церковь, хотя бы из кощунства, но в любом случае этот вопрос ничего общего не имеет с вопросом о христианских школах. Во-первых, потому что закрывая христианские школы не убивают христианский дух, а если ему суждено умереть, то он умрет даже при теократии. Во-вторых, потому что христианский дух и даже католическая догма не имеют ничего общего с духом той партии, которую мы хотим уничтожить (и которую копируем)..." [92]