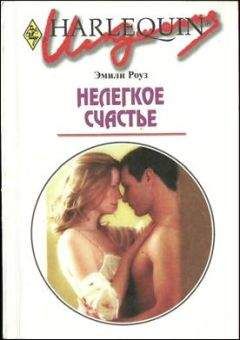Израиль Меттер - Пятый угол
Для меня это — революция, Ленин и начало двадцатых годов.
И чем яростней я отстреливаюсь с этой высотки, тем загадочней для меня то, как это продолжилось.
Вера невежественного человека в бога накапливалась тысячелетиями. Она передавалась из поколения в поколение. Лицемерие религии было относительным — она не сулила царства небесного на земле. Она лгала про райские кущи. Понятие бога было умозрительным. Вернее, оно становилось все более и более умозрительным по мере накопления культуры человечества.
И внезапно бог оказался рядом с нами. Он возник в той стране, которая стала почти полностью антирелигиозной. Этот бог был вполне конкретен. Он ходил в высоких, ярко начищенных сапогах, во френче, в фуражке полувоенного образца. Иконы с его изображением выпускались типографским способом, миллионными тиражами.
В молельные дома превращались даже комнаты коммунальных квартир.
Общие собрания стали походить на хлыстовские радения.
Сектанты истязали себя на глазах единоверцев.
Этот бог был жесток. Он карал не на том свете, а на этом. И чем больше он карал, тем исступленней в него верили. Никто из апостолов не предал его — он сам предавал их всех.
От возникновения христианства до веры миллионов людей в Христа прошли столетия. Новый бог возник после смерти Ленина, а трепетная, слепая вера в него охватила сотни миллионов в течение пятнадцати-семнадцати лет.
В типографии не хватало букв для повседневного упоминания его имени. Он был всезнающ — его нарекли «корифеем всех наук». С ним согласовывали форму крыла самолета, мутации пшеницы, КПД тепловозов, вопросы языкознания, точные сроки расщепления атома, тематику кинофильмов, историю, философию, литературу…
Он был всевидящ и всеслышащ — глазами и ушами доносчиков. Из тайного и постыдного ремесла доносительство стало почетным гражданским долгом.
Он был всемогущ и вездесущ — его архангелы выволакивали людей по ночам из теплых постелей, снимали с поездов, задерживали на улицах, подстерегали с ордерами в театрах.
Императоров, помазанников божьих за это ненавидели, душили, стреляли и свергали.
Новый бог был обожаем.
Его славили в песнях и в гимнах, его отливали в бронзе, высекали из мрамора, расписывали маслом, изображали на сцене и на экране. Именем его называли города и села.
Его изучали в яслях, в детских садах, в школах и в университетах.
Голодая, люди благодарили его за сытость. Погибая от его руки, выкрикивали здравицу в его честь.
Этому я был свидетель.
И этого я не могу понять.
Попытки объяснить эту загадочность людской психологии постоянным страхом несостоятельны. Страх, и только страх не в силах был бы удержать двухсотмиллионное население на протяжении тридцати лет в молитвенном преклонении.
Есть и другое объяснение. Оно также не кажется мне исчерпывающим.
Говорят, что он был выразителем и исполнителем той идеи, осуществление которой — давняя мечта человечества. И свою любовь к этой мечте мы фокусировали в нем.
Возможно, на первых порах дело обстояло именно так. Но уже через несколько лет творимое им жестоко противоречило этой идее, попирало ее, заливало ее горем и кровью. Несоответствие слова и дела мог бы заметить ребенок, но не замечали его взрослые, разумные люди. Либо замечали и говорили, что так и надо.
Истории нельзя задавать вопрос: что было бы, если бы?.. Истории этот вопрос противопоказан. Она всегда закономерна. Что было, то было, — она рассуждает только так.
Не надо мне этой закономерности.
Я хочу знать, что было бы, если бы этого не было.
И что будет.
Уволенный из военного училища, я вскоре устроился: институт связи зачислил меня преподавателем ФОНа — факультета особого назначения.
За этим таинственным названием ничего загадочного не скрывалось: на ФОНе учились директора почтамтов, завтелеграфами, всякие начальники-связисты.
Эти студенты по своей подготовке мало отличались от ком-вузовцев. Разве только тем, что они знали связистское дело, в их руках была определенная профессия.
ФОН имел свою специфику: в группах этого факультета насчитывалось всего по три-четыре студента. Бывало, что группа состояла из одного-единственного студента, он стоил дорого, к нему было прикреплено столько же преподавателей, сколько к нормальной студенческой группе.
Эта система обучения существовала в те годы не только в нашем институте связи. Она была обширной. Необходимость ее была вызвана тем, что начальству становилось все трудней руководить делом без элементарных знаний: грамотность подчиненных возрастала с каждым годом, да и само дело усложнялось.
Работать на ФОНе было скучновато, — это смахивало на репетиторство. Усилия преподавателя, спружиненные в нем для воздействия на десятки людей, выдавливались, как из тюбика, на одного человека. Учились мои студенты-фоновцы без особой охоты: им нужна была только справка об окончании факультета.
Институтских аудиторий не хватало — нередко фоновцы ходили ко мне на дом. И отношения у нас складывались полудомашние. Ставить двойки в стенах своей комнаты, в сущности, гостю было сложнее, — испытываешь при этом некую неловкость. Да и постепенно мне начинало казаться, что этим студентам не так уж нужна моя обкромсанная математика.
Как учитель я становился равнодушней.
Недовольство собой все сильнее охватывало меня.
Шли годы, остывал азарт учительства, исчезала радость открытия и узнавания, я становился холодным ремесленником.
Моя жизнь не получалась. Она проходила как бы в двух непересекающихся плоскостях; и в обеих была ублюдочной: я был ненастоящим учителем и у меня не было своего места на земле. Ощущение временности того, что я делаю, и того, как я живу, все глубже захлестывало меня.
…Это верно, Зинаида Борисовна, — время от времени я занимался литературным баловством.
Саша писал стихи — вы это знаете. В ту пору почти все мои друзья сочиняли стихи. Время, что ли, было такое? Меня эта страсть не коснулась. Когда во мне возникало желание выговориться поэзией, я кричал чужие стихи, — этого вполне хватало. Громко читая их, я как бы сам переселялся в эти строчки и гордился тем, что живу в них, что мне удалось так превосходно высказаться.
Наше тогдашнее отношение к поэзии было иным, нежели нынче. Я не ждал и не требовал от стихов, чтобы они объяснили мне окружающую действительность. Я даже влюблялся в стихи, не до конца мною понятые. Поэтическое бормотание волновало меня, как знахарство, как магия.
Не помню я и деления поэзии на лирическую и гражданскую. На смелую и трусливую. Мне и моим друзьям не нужно было разъяснять в рифму преимуществ нового социального строя. И оборонять его от нас тоже не надо было. Вероятно, мы испытывали потребность, чтобы стихи — если уж они что-нибудь должны объяснять — объяснили нам нас же самих.