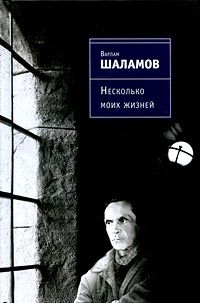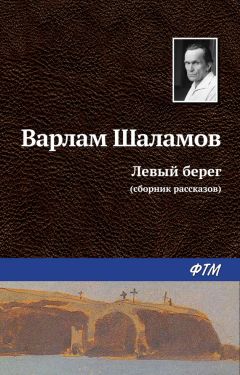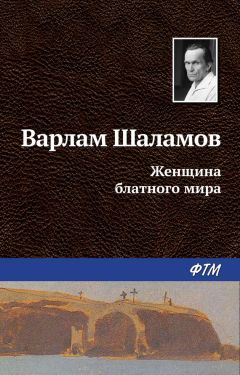Варлам Шаламов - Воспоминания
Вернуть к станку! Послать в цех! — такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.
Аля того чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 году на кожевенный завод в Кунцеве — дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.
Народу было человек 30 всего рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помешалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, организовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частников, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья — не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да ещё подозрительному социально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.
По колдоговору, утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.
Заработки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.
До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больниие два раза в неделю, за восемь рублей в месяи.
Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, — самый самодеятельный декрет советской власти, ещё в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек — сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самодеятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет, и не только потому, что Новгородская губерния или Чердынский уезд — не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства, так называемых рецидивов неграмотности.
Случилось так, что автором проекта декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь — сотрудник Крупской по Наркомпросу. В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет — след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.
«Завтра — мировая революция» — в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.
Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву — мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе — 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 — по девятому разряду тарифной сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.
Стоило это питание три рубля в месяц — обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горкой. Ели классической русской артелью — по четыре человека на выдолбленный окоренок — деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое — мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.
Ритм хлёбова регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов — старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! — отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!» Это значило: таскай с мясом — выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были миллионы — то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входящий в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.
Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.
Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, — он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.
Посуду у нас мыли по очереди, и когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.
— Дай-ка сюда.
Курукин вырвал у меня из рук и стакан и полотенце:
— Смотри.
Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.