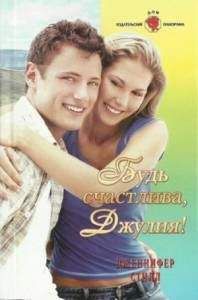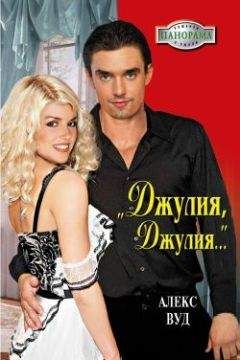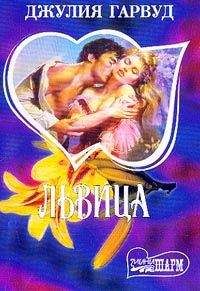Алексей Зверев - Лев Толстой
Толстой с интересом наблюдал их быт. В черновых редакциях «Казаков», имевших подзаголовок «Кавказская повесть 1852 года», описывается станица, где «все… дышит какой-то полнотой, изяществом себя вполне удовлетворяющей жизни». Как-то особенно радостны, милы и казачки с их резкими голосами, и старик, несущий в сапетке серебристых, еще бьющихся шамаек, и разбредающаяся по улицам скотина, и веселые лица детей. Мило все, не исключая лужи, которую столько лет обходят по краю у самого дома.
В «Казаках» процитирован Ермолов, который командовал Кавказским корпусом с 1816 года до своей опалы в 1827-м: «Кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине». А в дневнике это предсказание уточнено: «или с ума сойдет» — вспомнилось это после нового запоя Николеньки. Льву Николаевичу понятно, что он и сам под угрозой: «Мне кажется, что я от скуки рехнусь. Презираю все страсти и жизнь, а увлекаюсь страстишками и тешусь жизнью». Общение с казаками явилось противоядием. Особенно — общение с Епифаном Сехиным, которого читатели «Казаков» знают под именем Ерошки.
Это была незаурядная личность. Николай Толстой в «Охоте на Кавказе» рассказывает о нем, не изменяя его имени, и рассказывает восторженно. От него ли самого или от других станичников братья были наслышаны про бурную юность Епифана, который был конокрадом, мошенником, удальцом, переправлял за Терек чеченцам приглянувшихся им лошадей, но, случалось, и самих чеченцев приводил в Старогладковскую на аркане. «Он и в казематах сидел не однажды, — писал Николай Николаевич Толстой, — и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет ряд самых странных приключений. Наш старик никогда не работал; самая служба его была не то, что мы теперь привыкли понимать под этим словом. Он был или переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнить мог, разумеется, только он один: например, привести какого-ни-будь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли в город, поджечь дом Бейбулата, известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков или аманатов…»
Когда Толстой попал в Старогладковской на постой к Сехину, тому было уже под девяносто, но сложения он был атлетического, на здоровье не жаловался и о скором своем конце не думал — жил, как привык, неделями пропадая на охоте, а потом, навеселе, разгуливая по улице с балалайкой. «Был милейший человек, простой, добродушный, веселый», — отозвался о нем Толстой, вспомнив былое, когда к нему, восьмидесятилетнему старику, наведался в Ясную молодой казак, внук дяди Епишки.
Незадолго до революции писатель и журналист Гиляровский записал свои разговоры со стариком Синюхаевым, соседом Епифана Сехина. Про дядю Епишку этот старик рассказывал, что тот жил всю жизнь с собаками, ястребами да прирученным зверьем, никого не обижал ни словом, ни делом, всеми был уважаем — и казаками, и чеченцами, и ногайцами. Жена от него сбежала когда-то в незапамятные времена, и с тех пор Сехин жил один. В общественные дела не вникал, никому не услуживал, всем говорил «ты», а свое понимание жизни излагал так: «Бог у всех один. Все живем, потом умрем. Люди не звери, так и драться людям не надо. Вот зверя бей».
Когда у Епифана Сехина поселился приезжий барин, на него, ходившего не в форме, а в обычной рубашке, стали обращать внимание только потому, что был он прекрасный наездник и, собрав молодых, затевал с ними игры, а потом щедро одаривал. Епишка привязался к своему постояльцу настолько, что часто брал его с собой на охоту — честь, которой он не удостаивал никого больше. Сам он давно не садился на коня, но в праздники любил покрасоваться в лисьей папахе, расшитых серебром ноговицах и шелковом красном бешмете, подарке немирных гиреев.
Кое-что в записях Гиляровского наверняка навеяно толстовскими «Казаками». Есть упоминания о Епишке и в дневнике Толстого: «плут и шутник», «особенный характер». С ним легко пить, а охотиться просто замечательно, он, когда надо, отыщет и знахаря-ногайца, и сговорчивую казачку. Но, самое главное, он отменно понимает, что творится в душе его кунака. До чего верно он подметил, что «я какой-то нелюбимый».
Ощущение своей ненужности в мире изводит Толстого, побуждая разрабатывать одну за другой программы моральных правил, а затем с отвращением к себе признаваться, что они так и остались только на страницах дневника. Ему минуло 23 года, этот рубеж воспринимается как эпоха. «Много рассчитывал я на эту эпоху, но, к несчастью, я остаюсь все тем же, в несколько дней я не успел переделать все то, чего не оправдываю. Резкие перевороты невозможны». Стало быть, все останется, как было: женщины, карты, ложный стыд, неумение держаться на должной высоте, когда рядом опасность. Следующая дата: «Мне 24 года; а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже 8 лет я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен?» Уж конечно, на что-то более достойное, чем занятия, о которых тоже записал в дневнике — «убил 3 бекасов».
Епишка живет не мудрствуя. «Охота и бражничанье — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием», — пишет в своем очерке брат Николай. А Лев Николаевич пересказывает в дневнике его воспоминания о том, как случалось погулять на свадьбе у немирных чеченцев, как на охоте поссорился с каким-то холопом Ильиным, выстрелил в него, просил потом у него прошения перед смертью. И, протягивая ружье становому, говорил: пусть убьют его самого.
Порой Толстому хочется вести в точности такую же — естественную и, как он думает, счастливую — жизнь. На пути в Тифлис он отправляет Ергольской письмо с уверениями, что внезапное решение ехать на Кавказ было ему внушено свыше, ибо здесь он стал лучше и, что бы с ним ни случилось дальше, все на благо. Однако год с небольшим спустя в дневнике записал совсем другое: дождаться бы первого офицерского чина — стыдно ехать в Россию юнкером — и в отставку. «Я теперь испытываю в первый раз чувство чрезвычайно грустное и тяжелое — сожаление о пропащей без пользы и наслаждения молодости. А чувствую, что молодость прошла. Пора с нею проститься». Толстому всего двадцать четыре с половиной года. Только что закончилась еще одна экспедиция, в которой он участвовал, конца войне не видно. Меж тем так притягивает мысль «вступить опять в колею порядочной жизни — чтение, писание, порядок и воздержание. Из-за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо!»
Какая она будет, «порядочная жизнь», он еще не вполне ясно осознал. Офицерского чина Толстой не получит долго: то нет бумаг, то, как раз накануне раздачи чинов и Георгиев, не явился в назначенный час на службу, потому что засиделся за шахматами. То откажется от креста в пользу старого солдата, которому отличие нужнее: оно дает пожизненную пенсию.