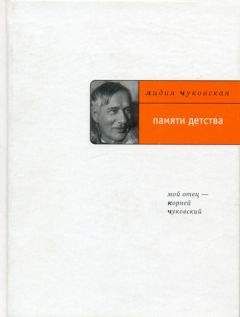Лидия Чуковская - Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962
(Когда же предложат Ахматову?) Я ее застала лежащей, она больна и мрачна. В руках – новая книжка Берггольц.
Анна Андреевна недовольна – и Ольгой, и книжкой.
– Ольга мне звонила много раз, – и каждый раз одно и то же: «хочу к вам придти, но не могу – пьяна. Не стою на ногах». Однако в те же дни она ходила по делам в Лениздат и выступала в защиту мира. Значит, только для друзей она не стоит на ногах.
Я сказала, что прочла «Верность» и мне очень не понравилось, интонация какая-то противоестественная35.
– А я не прочла, – отозвалась Анна Андреевна. – Эта вещь сама не дает себя читать. Фальшивый звук. Я не могла бы ее прочесть, если бы мне платили по 18 рублей за строчку.
Она спросила, читала ли я «Лирику», и, узнав, что нет, продолжала:
– И это тоже очень странная книга. Всего два-три новых стихотворения, а то всё старые: мама-Кама и про шофера на льду[72]. Может быть, эти стихи имели еще какой-то смысл в 42 году, потому что пахли трупом, но сейчас пятьдесят пятый. Их надо было оставить в маленькой книжечке 42 года, чтобы потом извлекли, а не перепечатывать без конца36.
Вошел Ардов. Изобразил речь Суркова на Съезде; я каталась со смеху; обоймы имен, причем каждая кончается рефреном: «И Мирзо Турсун-Задэ»… Позвали нас чай пить. За столом Нина Антоновна, Наташа Ильина[73] и мать Виктора Ефимовича. Тут же в столовой мелькают Миша и Боря. Приносят чай, приходят и уходят, двоятся и превращаются в других: у них гости. Борю, Мишу и Алешу я помню издавна, еще по Чистополю: пресмешные ребятишки, мал-мала-меныпе – лесенкой; теперь это большие, красивые мальчики, и они мне по душе, потому что чувствуется, что они любят Анну Андреевну и ей с ними хорошо37. Причесавшись и надев красивый халат, вышла в столовую и она. Разговор был общий, то есть никакой, Анна Андреевна молчала. Рассказала, впрочем, о своих корейских переводах: Холодович, редактор книги и заведующий кафедрой, прочитал их студентам. Корейцы спросили: «А не было это уже в «Anno Domini»»?
– Для переводчика – дурной комплимент, – добавила Анна Андреевна, – но я польщена.
Потом она снова увела меня к себе. Рассказала, что Смирнов предложил ей для перевода «Двенадцатую ночь» и она с негодованием отказалась.
– Вы, кажется, забыли, кто я!.. Над свежей могилой друга я не стану… У меня это не в обычае[74].
Сама она всегда помнит, кто она. Сквозь все унижения и все переводы.
22 апреля 55 Как-то на днях, когда мне можно было не ехать в Переделкино, меня позвала Анна Андреевна, и мы целый вечер читали японские стихи.
Голос в телефонной трубке показался мне бодрым, радостным. По этому случаю, пока я шла через мост, я нянчилась с такой мыслью – Анна Андреевна сама откроет мне дверь и еще в передней скажет: «Леву освободили». Но нет, я все это придумала. Ничего нового. На последнее ее заявление (Струве38, Эренбург) ответа нет[75]. Анна Андреевна удручена. Куда еще идти? Кого еще просить? Куда писать?
Лежит – у ног грелка – в руках красненькая книжечка: «Японская поэзия». Читала мне вслух сама и меня просила читать. Все стихи из одного отдела: «позднее средневековье». Книга только что вышла39.
– Правда, дивные? По любому счету – самого первого класса.
Это правда. Мы с упоением, по очереди, читали стихи японцев вслух, передавая книгу друг другу и выискивая все новые чудеса. (Переводы Марковой40.)
Вот что я запомнила:
Первый снег в саду!
Он едва-едва нарцисса
Листики пригнул.
Или:
Нищий на пути!
Летом весь его покров —
Небо и земля.
Или:
И поля и горы —
Снег тихонько все украл…
Сразу стало пусто.
Эти три прочитала мне Анна Андреевна и спросила, могу ли я определить, в чем тут прелесть? Чем это так хорошо?
– Все это увидено и сказано в первый раз, – попыталась я. – Какое-то сочетание первозданности с изысканностью. И как все точно. И похоже на рисунки.
– Теперь мне кажется, что мои переводы корейцев плохи, – сказала Анна Андреевна.
Просила читать еще.
Я прочитала:
Так кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду.
И еще одно:
Верно, в прежней жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка?
И еще:
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер!
Лучшие, пожалуй, – «фазан» и «нищий». Кажется, будто их сочинила чеховская девочка – та самая, которая сказала: «море было большое». У Мандельштама где-то написано: «Как детский рисунок просты». Да, эти стихи чем-то похожи на детские рисунки[76].
Анна Андреевна снова взяла у меня книжку из рук.
– По чьей-то серости, – сказала она, – тут иногда переводчики пускаются в рифмовку, хотя у японцев рифм не бывает. Серость и тупость. Сразу огрубляется, опрощается стих. В собственных стихах рифма – крылья, а в чужих, когда переводишь, – тяжесть. Здесь же это и совсем ни к чему!
Она засунула книгу в тумбочку.
Потом сказала:
– Известно ли вам, что я родилась в один год с Гитлером? Но не пугайтесь: в этом же году родился Чаплин. Год двоякий[77].
Она потянула к себе со стола книгу Садуля о Чаплине и прочитала вслух два отрывка. Книга ей сильно не нравится403.
Заговорили о Хемингуэе. Анна Андреевна объявила, что не любит у него рыбной ловли, а я, при этих словах, сразу схватилась за губу.
– Ах, я вижу, – сказала Анна Андреевна, – вы тоже понимаете, каково рыбам? Крючок впивается им в губу! Это еще хуже, чем охота, о которой пишут столь поэтично и несут домой окровавленных птиц…
Я сказала, что ни она, ни я прелести охоты понять не можем: чтобы любить охоту, надо быть мужчиной.
– Вы ошибаетесь, – с некоторой даже торжественностью ответила Анна Андреевна, – многие мужчины думают так же, как мы.
Я переменила ей грелку у ног. Она пожаловалась, что чувствует себя очень плохо:
– Мне предлагают работу, а я не могу ее взять, просто не в силах, – сказала она.
Я спросила, не собирается ли она в Болшево?
– Нет, нет. Не с моими нервами. Я слишком хорошо изучила и санаторий, и себя. Я не персонаж для санатория.
26 апреля 55 Анна Андреевна прочитала «Старика и море». По этому случаю последовал монолог о Хемингуэе:
– Нет, книга мне не понравилась. Я читала и думала: «Мне бы ваши заботы, господин учитель». Ведь это он сам и его дама появляются в конце, с их позиции все и написано… Все такое надмирное… В «Прощай, оружие!» ему было что сказать – свое, категорическое, а тут – нет, не слышу. Больше всего я люблю у него «Прощай, оружие!» и «Снега Килиманджаро»… А вы заметили – он совсем не американец? Он европеец, парижанин, кто хотите. У него и Штатов почти нет, все больше другие страны. И вы заметили, какие в его вещах все люди одинокие – без родных, без родителей? В «Прощай, оружие!» говорится про кого-то «у него даже был где-то отец». Полная противоположность Прусту: у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки.