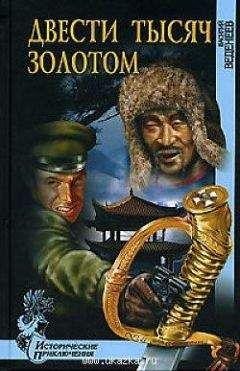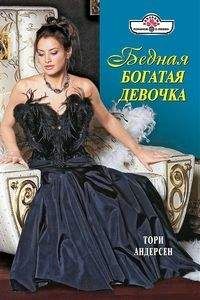Корней Чуковский - Дневник (1901-1929)
Война... Бена берут в солдаты. Очень жалко. Он по мне. Большая личность: находчив, силен, остроумен, сантиментален, в дружбе крепок, и теперь пишет хорошие стихи. Вчера в среду я повел его, Арнштама и мраморную муху11, Мандельштама, в Пенаты, и Репину больше всех понравился Бен. Каков он будет, когда его коснется слава, не знаю; но сейчас он очень хорош. Прочитав в газетах о мобилизации, немедленно собрался — и весело зашагал. Я нашел ему комнату в лавке — наверху, на чердаке, он ее принял с удовольствием. Поэт в нем есть, но и нигилист. Он — одесский.
У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка — о Чехове — почти бездарна, а я корпел над нею с января.
Характерно, что брат Натальи Борисовны — Федор Борисович — уже несколько раз справлялся о наследстве.
Был вчера, 26-го июля, в городе. За деньгами: отвозил статью в «Ниву». В «Ниве» плохо. За подписчиками еще дополучить 200 000 р.— сказал мне Панин. У них забрали 30 типографск. служащих, 12 — из конторы, 6 — из имения г-жи Маркс. У писателей безденежье. Как томился длинноволосый — и час и два — в прихожей с какой-то рукописью. Видел Сергея Городецкого. Он форсированно и демонстративно патриотичен: «К черту этого изменника Милюкова!» Пишет патриотические стихи, и когда мы проходили мимо германского посольства — выразил радость, что оно так разгромлено. «В деревне мобилизация — эпос!» — восхищается. Но за всем этим какое-то уныние: денег нет ничего, а Нимфа, должно быть, не придумала, какую позу принять.
Был у А. Ф. Кони. Он только что из Зимнего Дворца, где Государь говорил речь народным представителям. Кони рассказал странное: будто когда государю Германия уже объявила войну и государь, поработав, пошел в 1 ч. ночи пить к государыне чай, принесли телеграмму от Вильгельма II: прошу отложить мобилизацию. Но Кони, как и Репин, не оглушен этой войной. Репин во время всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом (снаружи) и до азарта занят насыпанием в Пенатах холма на том месте, где было болото: «потому что Н. Б-не болото было вредно». Кони с увлечением рассказывает о письмах Некрасова, к-рые ему подарила наследница Ераковых — Данилова12. Салтыкова письма: грубые. «Салтыков вообще был двуличный, грубый, неискренний человек». Неподражаемо подражая голосу Салтыкова, лающему и отрывисто буркающему, он живо восстановил несколько сцен. Напр., когда была дуэль Утина и Утин сидел под арестом, Кони встретился на улице с Салтыковым (мы жили с ним в одном доме):
— Бедный Утин,— говорю я.
— Бедный, бедный (передразнивает Салтыков). А кто виноват? Друзья виноваты.
— Почему?
— Это не друзья, а мерзавцы...
— Позвольте... ведь вы его друг... вы с ним в карты играете...
— В карты играю!.. Мало ли что в карты играю... Играю в карты... а не друг... В карты, а вовсе не друг.
— Но ведь и я к нему отношусь дружески...
— О вас не говорят...
— Но вот Арсеньев...
— Арсеньев... Арсеньев... А вы знаете, кто такой Арсеньев...
— ?
— Арсеньев — василиск!
Назвать Арсеньева василиском! Это был василек, а не василиск. Мало даровитый, узкий, но — благороднейший13.
Потом пошли разговоры о Суворине: оказывается, у Суворина в 1873 г. (или в 74) жена отправилась в гостиницу с каким-то уродом-офицером военным, и там они оба найдены были убитыми. Кони как прокурор вел это дело, и Суворин приходил к нему с просьбой рассказать всю правду. Кони, понятно, скрывал. Сув. был близок к самоубийству. Бывало, сидит в гостиной у Кони и изливает свои муки Щедрину, тот слушает с участием, но чуть Сув. уйдет, издевается над ним и ругает его. Некр. был не таков: он был порочный, но не дурной человек.
О Зиночке. Бывало, говорит: — Зиночка, выдь, я сейчас нехорошее слово скажу.— Зиночка выходила.
Опять о государе: побледнел, помолодел, похорошел, прежде был обрюзгший и неуверенный.— Я снова на улице. Извозчики заламывают страшные цены. В «Вене» снята вывеска. У Лейнера тоже: заменены белыми полотняными: «Ресторан о-ва официантов», «Ресторан И. С. Соколова». Вместо St. Petersburger Zeitung вывеска: Немецкая Газета. По улицам солдаты с котелками, с лопатами. Страшно, что такую тяжесть носит один человек. У «Веч. Времени» толпа. Многие жертвуют на флот — сидит даже военный у кружки и дама, напропалую с ним кокетничающая. Какого-то зеленого чертежника, чахоточного, громко (со скандалом) бранят: как вы смели усумниться? как вы смели такое высказать... Он громко кричит «Это ложь!» (яростно). Дама оч. добродушная — хохлушка? — читает в окне «Веч. Времени»: «У Льежа погибло 15 000 немцев» и говорит: «Ну, слава Богу... я счастлива».
После долгих мытарств в «Ниве» иду в «Речь». Там встречаю Ярцева, театрального критика. Говорю: как будем мы снискивать хлеб свой, если единственный театр теперь — это театр военных действий, а единственная книга — это Оранжевая Книга!14 В «Совр. Сл.» Ганфман и Татьяна Александровна рассказывают о Зимнем Дворце и о Думе15. В Думе: они находят декларацию поляков очень хитрой, тонкой, речь Керенского умной, речь Хаустова глупой, а во время речи Милюкова — плакал почему-то Бирилев... Говорят, что г-жа Милюкова, у которой дача в Финляндии, где до 6000 книг, заперла их на ключ и ключ вручила коменданту: пожалуйста, размещайте здесь офицеров, но солдат не надо. <...>
1916
21 июля. Вчера именины Репина. Руманов решил милостиво прислать ему добавочные 500 рублей при таком письме: «Глубокоуважаемый И. Е. Правление Т-ва А. Ф. Маркса в новом составе в лице И. Д. Сытина, В. П. Фролова и А. В. Руманова, ознакомившись с вашим прекрасным трудом и желанием получить дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей, не предусмотренное договором, считает своим приятным долгом препроводить Вам эту сумму. С истинным уважением В. Фролов».
Я вошел в кабинет И. Е., поздравил и прочел письмо. Он изменился в лице, затопал ногами: — Вон, вон; мерзавец, хочет купить меня за 500 рублей, сволочь, сапоги бутылками (Сытин), отдайте ему назад эти 500 и вот еще тысяча (он полез в задний карман брюк)... отдайте... под суд! под суд, и т. д.— Я был очень огорчен, что эта чепуха доставила ему столько страдания. Сегодня снова хочу попытать свое счастье.
На именинах вчера — обедали в саду, великолепные фрукты, компот и т. д. Шкилондзь пела Репину чарочку. Бобочка с Женечкой Соколовым в пруду на веслах. Ермаков меня травил и дразнил: через месяц призыв ратников, и моя участь зависит от Ермакова, он (в шутку) этим пользуется:
Сегодня — после двухлетнего перерыва — я впервые взялся за стихи Блока — и словно ожил: вот мое, подлинное, а не Вильтон, не Кушинниковы — не Киселева — не Гёц,— не все это мещанство, ликующее, праздно болтающее, к-рое вокруг. Последние дни мое безделье — подлое — дошло до апогея, и я вдруг опомнился и сегодня весь день сижу за столом: все 4 тысячи, что дала мне книжка, да две тысячи, что дали мне статьи, ушли в полгода, не дав мне ни минуты радости. <...>