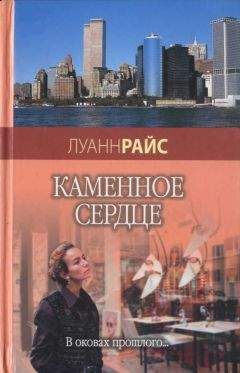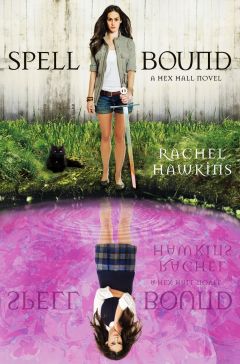Мария Белкина - Скрещение судеб
Но мне думается, что подробности не столь уж существенны, главное он был соучастником! И это тяжким грехом ложится на его душу… Но представим себе на минуту: поменяем ролями Эфрона и Рейсса. Рейсс еще тот прежний, верящий Москве, а Эфрон перебежчик. Из центра, из Москвы приходит Рейссу указание — содействовать устранению Эфрона. Содействовал бы Рейсс? Безусловно. Разведчик — солдат тайной армии и приказ есть приказ. А перебежчик — враг. Я вовсе не хочу этим как-то оправдать Эфрона. Нет, Боже избави. Но это ведь только в кино, в книгах (а мы так любим их читать, такие увлекательные сюжеты!) разведчик совершает благородные подвиги, во имя благородных целей. А по сути-то своей профессия эта — аморальна! Подслушивать, подсматривать, выслеживать, выкрадывать документы, людей, вербовать сообщников, втираться в доверие и обманывать и т. д. и т. п. И самая древняя профессия! И есть и будет, какое бы тысячелетие не стояло на дворе.
Сергей Яковлевич сказал своей приятельнице Вере Трайл, дочери Гучкова, роенного министра при правительстве Керенского, которая тоже сотрудничала с НКВД, — «Меня втянули в грязное дело…»
В этом «деле» под Лозанной столько было участников: Смиренский, Кондратьев, Рената Штейнер, Шильдбах, Росси — он же Аббиат, — (считается он и был непосредственным убийцей), Мишель Странг, студент Сорбонны, Белецкий, Грозовская из советского торгпредства, Шнигельгласс, из самого центра, из Москвы, Эфрон. Кажется, никого не пропустила! А кому что говорят эти имена? Эфрон? Эфрон — муж Цветаевой. И пишут о нем больше всего. И прибавляют ему еще и новые преступления. Мало одного Рейсса, да и кто что знает о нем, а вот сын Троцкого — Лев Седов! Муж Цветаевой убийца Льва Седова — это звучит. И из книги в книгу, выходящих за рубежом, это так и переходит… Кому первому пришло в голову? Кто начал? Но вот так и пошло. И никто не догадался проверить, ну хотя бы подшивки газет поднять. А ведь Эфрон бежал из Парижа 10 октября 1937 года, а Седов скончался в больнице 16 февраля 1938. Эфрон в это время на полулегальном положении содержится в Москве.
И удивительно, давно уже известно, что произошло там в больнице в Париже, куда поместила Седова его жена, француженка. И столько об этом написано. И столько уже написано об Эфроне и когда он прибыл в Москву и что и как было. А вот в 1991 году в московской газете появляется сообщение маститого советского писателя, в котором он оповещает нас, что там в Париже, когда Лев Седов вышел из типографии, где печатал обычно свои брошюры, то за углом его уже поджидала карета скорой помощи и двое шустрых молодчиков — Эфрон и Эйснер! Где был Эфрон, мы знаем, а Эйснер в это время еще сражался в Испании. А чуть раньше был напечатан доклад одного голландского историка, тоже в Москве, в котором он говорил, что Лев Савинков, сын Бориса Савинкова, ему рассказывал как он летом 1938 года случайно столкнулся на пляже под Барселоной с Эфроном, которого хорошо знал, но тот заметив его отвернулся и быстро скрылся, «видно совесть у него была нечиста!»…
Сергей Яковлевич летом 1938 года очень хворал, лежал в больнице, где Нина Гордон вместе с Алей навещали его.
Имя Цветаевой притягивает. И каждому хочется, так или иначе, быть причастным и если не о ней самой, так хоть о близких сообщить нечто. Правда и о ней самой столько всякой небыли говорится!
А вот как рождаются «мифы», я однажды была свидетелем. Это было где-то в начале восьмидесятых. Мне попало в руки сочинение Бронислава Сосинского и кассета, он любил свои эссе наговаривать. «Я совсем недавно узнал, — говорил и писал он, — что Марина Ивановна сказала одному из наших крупнейших поэтов Арсению Александровичу Тарковскому: — «Сергей Яковлевич? Это страшный человек!» Я понимала, она этого не могла сказать и не мог сказать это Арсений. Мы с ним много говорили о ней… И все же я помчалась в Переделкино, где он в это время жил. Арсений был в полном здравии, но как всегда, вспыльчив и недоразобравшись, недопоняв, налетел на меня — как я смею распространять о нем всякую чушь! А когда до него дошло в чем дело, он сердито прокричал: «Никогда этого не говорила! Ложь! Вообще о муже не говорила! Да, вы что забыли, что о тех кто сидел не говорили!..»
Уходя от Арсения, я столкнулась в коридоре с Николаем Николаевичем Вильмонтом. И тут меня осенило — так ведь это же он сказал! Это его слова. Как-то у них в Астраханском за обедом, а его жена Тата любила вкусно угостить, зашел разговор о Сергее Яковлевиче и Николай Николаевич сказал: — «Сергей Яковлевич — это страшный человек!» И на мой вопрос — почему он так думает, ответил: «Эфрон убил сына Троцкого Льва Седова!», и сослался на предисловие Проффера к фотоальбому Цветаевой. Мне была известна эта статья и я сожалела, что такой уважаемый человек, как Проффер, взял эти ложные сведения из какой-то чужой книги. Я привела все доводы, какие только могла, и обещала даже живых свидетелей привести, которые в то время, когда Седов умирал в Париже, встречались с Сергеем Яковлевичем в Москве. Кажется, я убедила Николая Николаевича. Конечно, он не только мне это говорил, а спутать Тарковского-Вильмонта было легко, Марина Ивановна встречалась и с тем и с другим, а затем приписали эти слова и самой Марине Ивановне! — Взрослые так любят эту детскую игру — в «испорченный телефон»!
Тата тогда, за обедом, сказала:
— Сергей Яковлевич очень виноват перед Мариной Ивановной!
И я с ней вполне согласилась. Имея такую жену, и понимая какой это поэт, он не имел права подвергать ее риску, не имел права связывать свою судьбу с НКВД, становиться тайным агентом. Но впрочем нам ведь ничего неизвестно…
А недавно одна общая знакомая сообщила мне, якобы со слов Таты, что это Марина Ивановна сказала ей, Тате: — «Сергей Яковлевич очень виноват…» Но Тата уже мертва и очной ставки не устроить. А Марина Ивановна ни с кем, никогда, даже с Ниной Гордон, которой очень доверяла, и у которой муж тоже сидел, — не касалась этой темы, разве что с Лилей, с Елизаветой Яковлевной говорила.
…С Сергеем Яковлевичем мне так и на довелось встретиться. Он был уже арестован, когда мы с Тарасенковым познакомились с Мариной Ивановной. И получилось так, что он оказался единственным из семьи Цветаевой, кого я не знала. И потому книга моя сразу была задумана как триптих — только о тех с кем непосредственно столкнула меня судьба: Марина Ивановна, Мур, Аля. А Сергей Яковлевич прошел стороной…
В те отдаленные времена, конюшковские времена, как я уже говорила, мы ничего о нем не знали. Но он вызывал у меня чувство симпатии ибо он был мужем Марины Ивановны, отцом Мура. И сочувствие, ибо он находился в тюрьме. Позже я столько доброго слышала о нем, от тех, кто встречался с ним в 1937–39 годах в Москве, от Нины Гордон, от Лиды Бать, от его племянника Константина, от Эйснера, который знал его еще по Парижу. Все говорили, что он был обаятельным, отзывчивым, внимательным, добрым и интересным человеком. Борис Леонидович писал, что полюбил его как брата. А о молодом Эфроне так тепло отзывались — Бальмонт, Белый, Ходасевич, Волошин. Столько писала Марина Ивановна о нем. Столько его писем прочла я к Волошину, к Елизавете Яковлевне. Хорошие письма, хороший человек их писал. Но сразу бросается в глаза, что человек этот никак не может найти себя, что неприкаянный он какой-то, и что он так и не состоялся… Ну, а затем я прочла о том, что произошло под Лозанной, и о том, что был он и «наемным убийцей», и «платным агентом» и прочее, прочее…