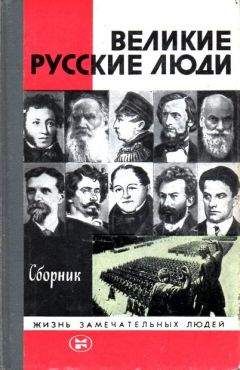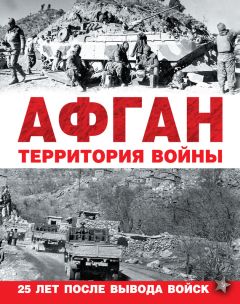Рихард Вагнер - Моя жизнь. Том II
Я чувствовал себя свободным, как птица, и это ощущение действовало на меня возбуждающим образом. Часто мне самому бывало неловко от чрезвычайной экзальтации, охватившей мое существо. Нередко я перед первым встречным готов был изливаться в самых странных парадоксах. Уже вскоре по прибытии в Цюрих мне захотелось письменно изложить свои взгляды на общее состояние дел, как они сформировались под влиянием моего художественно-артистического опыта и политических событий того времени. Так как не оставалось ничего другого, как искать заработка пером, я решил написать для большого французского журнала, вроде тогдашнего National («Насьональ»), ряд статей и высказываний с революционной точки зрения, некоторые идеи о современном искусстве и его роли в жизни общества. Шесть таких очерков я отправил старому моему знакомому Альберту Франку, брату Германа Франка, тогдашнего владельца немецко-французского книжного дела, основанного моим зятем Авенариусом в Париже. Я просил заказать перевод и поместить статьи в журнал. Скоро я получил их обратно со справедливым замечанием, что парижская публика их не поймет, да и не обратит на них внимания особенно в настоящее время. Тогда я объединил все шесть статей под общим заглавием «Искусство и революция»[134] и отправил книгопродавцу Отто Виганду[135] в Лейпциг, который и взялся издать их отдельной брошюрой, послав мне при этом 5 луидоров в качестве гонорара. Эта необыкновенная удача заставила меня подумать о дальнейшем использовании своих писательских способностей. Я разыскал между своими бумагами очерк, набросанный при изучении саги о Нибелунгах, дал ему заглавие Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage[136] и опять попытал счастья у Виганда. Радикально настроенный Виганд рассчитывал, что возбуждающий заголовок «Искусство и революция», а также тот необыкновенный интерес, который вызывал я лично как бывший королевский капельмейстер, ставший политическим эмигрантом, создадут известный шум в обществе и обратят внимание на мои статьи. И действительно, скоро я узнал, что брошюра «Искусство и революция» вышла вторым изданием, причем мне Виганд не сообщил об этом ничего. Мою новую рукопись он тоже принял и вновь прислал мне 5 луидоров. Впервые, таким образом, я стал извлекать выгоду из публикации моих работ. Очевидно, я напал на верный путь, которым активно мог идти навстречу судьбе. Я стал думать о том, чтобы ближайшей зимой прочесть в Цюрихе несколько публичных лекций по вопросам искусства и вообще надеяться на скромно доходную деятельность, не прибегая ни к каким должностям, особенно к музыке.
Мне казалось необходимым обеспечить себе таким путем какой-нибудь доход, ибо дела мои стали складываться так, что без постороннего заработка я совершенно не знал бы, как просуществовать. В Цюрихе я увидел остатки разбитой баденской армии и сопровождавшую их толпу беглецов, и зрелище это произвело на меня в высшей степени горестное впечатление. Известие о пленении Гёргея[137] в битве при Вилагоше отняло всякую надежду на благоприятный исход общеевропейской борьбы за свободу. И лишь с этого момента, пережив огромное, тяжелое потрясение, я от внешних событий обратил свой взор на самого себя, на свою внутреннюю жизнь. Ежедневно после обеда, в тягостном настроении, я заходил в «Литературное кафе» [Café littéraire]. Там, среди тупой человеческой толпы, играющей в домино и азартные игры, я пил свой кофе и мечтательно рассматривал на стенах незамысловатые рисунки с античными сюжетами. В памяти моей выплывали виденные в ранней юности у зятя Брокгауза акварели Дженелли[138], изображавшие воспитание Диониса музами. Здесь в голове моей сложились идеи, вылившиеся впоследствии в статье «Произведение искусства будущего». Мне показалось особенно знаменательным событием, когда из моих мечтаний я был однажды вырван известием о том, что в Цюрихе находится Шрёдер-Девриент. Я побежал в расположенную напротив гостиницу Zum Schwerte, чтобы повидаться с ней, и почти испугался, услышав, что она только что с пароходом уехала. Больше я ее не видел. Впоследствии я получил от жены, изредка встречавшейся с ней в Лейпциге, горестное известие о ее смерти.
244Так, без почвы под ногами, беспорядочно провел я два летних месяца, пока не получил утешительного известия от Минны из Дрездена. Несмотря на то что она обошлась со мной грубо и оскорбительно, я все-таки не мог в глубине души считать себя совершенно свободным от забот о ней. Я с участием справлялся о ней у одного из ее родственников, причем рассчитывал, что она об этом узнает. Кроме того, я неоднократно просил Листа по мере возможности не оставлять ее без своего внимания. Теперь я получил письмо от нее самой. По письму я убедился, как умело эта деятельная женщина справлялась со своим трудным положением, и, кроме того, она тут же дала мне доказательство того, что искренно желает снова со мной соединиться. Минна выражала презрительное недоверие к моим планам, связанным с Цюрихом, но при этом заявляла, что считает себя обязанной как жена еще раз попытаться связать наши две жизни. Она высказала предположение, что Цюрих я предложу ей лишь в виде временного местопребывания и постараюсь устроиться в качестве оперного композитора в Париже.
Наконец, она объявила мне, что в сентябре, такого-то числа, она в сопровождении Пепса, попугая Папо и Натали, мнимой сестры своей, приедет в Швейцарию. Я снял две комнаты и пешком отправился из Рапперсвиля [Rapperswyl] через знаменитый своей красотой Тоггенбург [Toggenburg] и Аппенцелль [Appenzell] на Сен-Галлен и Роршах. Когда в Роршахе я встретил свою странную семью, наполовину состоявшую из животных, то почувствовал себя растроганным. Признаюсь, особенно обрадовали меня собачка и птица. Жена же не замедлила расхолодить меня, пригрозив тут же, при первом свидании, что немедленно вернется в Дрезден, если встретит с моей стороны неподходящее обращение. Друзья приготовили ей на этот случай приют и поддержку. Но уже первый взгляд на Минну, постаревшую за короткий срок, наполнил меня состраданием к ней, и это помогло мне справиться с горечью обиды. Я постарался ободрить ее и представить ей наши нынешние злоключения как нечто преходящее. Сначала это удавалось мне с трудом. Уже внешний вид Цюриха произвел на нее дурное впечатление: Дрезден был и красивее, и больше. Друзей моих, с которыми я ее познакомил, она ни во что не ставила. Городского секретаря Зульцера она считала простым писцом: в Германии «такие люди не играют никакой роли». Особенно возмутила ее жена моего хозяина Александра Мюллера. Когда Минна стала горько жаловаться на то, что я довел себя до такого жалкого положения, госпожа Мюллер ответила, что, не пощадив жену, я этим проявил величие характера.
Мне было очень приятно услышать из уст жены, что она сохранила кое-что из нашей дрезденской обстановки: она рассчитывала, что эти вещи нам понадобятся. Это были довольно плохой рояль фирмы «Брейткопф и Гертель» и заглавный лист Корнелиуса к «Нибелунгам» в готической раме, висевший над моим письменным столом. С этой основой нашего будущего хозяйства мы решили устроиться, сняв маленькую квартирку в так называемых «Последних домах Эшера» [Hinteren Escherhäusern], расположенных на Цельтвеге [Zeltweg]. С большим успехом ей удалось совершить трудную во многих отношениях продажу нашей мебели и сберечь при этом около 100 талеров для теперешних надобностей. Мою небольшую, но тщательно составленную библиотеку ей тоже посчастливилось, как она думала, прекрасно сохранить. Она передала ее брату моего зятя, книготорговцу и саксонскому депутату Генриху Брокгаузу, который настойчиво ее об этом просил. Как же была она поражена, когда, обратившись к нему с просьбой прислать книги, получила от смышленого родственника ответ, что он оставляет их у себя в обеспечение взятых у него в тяжелую минуту 500 талеров, и вернет тогда, когда я уплачу весь долг. Так как в течение многих лет я не был в состоянии вернуть 500 талеров, то моя библиотека, заботливо составленная применительно к моим личным потребностям, пропала для меня навсегда. Зульцер, звание которого ввело в заблуждение мою жену, несмотря на свое весьма незначительное состояние, нашел возможным выручить меня, и мы устроились в нашей маленькой квартирке так уютно, что могли вполне соответствовать вкусам моих здешних друзей с их скромными привычками. Талант моей жены проявился в полном блеске. Вспоминаю в особенности гениальное употребление, которое она сделала из ящика с рукописями и нотами: из него вышла прекрасная этажерка.
245Возникал, однако, вопрос, где найти средства для нашего пропитания. Моя идея читать публичные лекции в Цюрихе встретила решительный протест со стороны Минны. Она признавала только один план, а именно предложенный Листом: выступить в Париже в качестве оперного композитора. Чтобы ее успокоить и не видя перед собой никаких перспектив, я вступил в переписку с моим большим другом Листом и с его секретарем Беллони. Необходимо было немедленно что-нибудь предпринять, и я согласился на предложение Цюрихского музыкального общества взять на себя управление его оркестром. Оркестр был маленький, бедный, и я положил много труда, чтобы разучить с ним [Седьмую] симфонию A-dur Бетховена. Исполнили мы ее, однако, с большим успехом. Гонорара я получил 5 наполеондоров. Жену мою этот концерт очень расстроил, так как напомнил ей о богатых средствах и блестящей обстановке недавних дрезденских концертов, которые требовали небольших усилий с моей стороны и давали известный доход. При всяком удобном случае, не обращая внимания на вопрос артистической щепетильности, она возвращалась все к одному и тому же: к возможной блестящей карьере в Париже. Оставалось неясным, откуда я добуду средств для путешествия в Париж, для жизни в нем, и я снова погрузился в размышления на занимавшие меня в то время художественно-эстетические темы. Приходилось бороться с жесточайшей нуждой, мерзнуть в маленькой квартире, лишенной солнца. И вот при этих условиях в течение зимних месяцев ноября и декабря я закончил довольно крупное сочинение «Произведение искусства будущего»[139]. Минна не протестовала против моих занятий, так как я мог сослаться на успех первой брошюры и надеяться, что труд, более крупный по объему, будет соответственным образом оплачен.