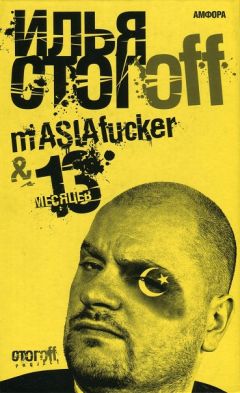Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
3) Ни о каких нарочитых церемониях у бездыханного трупа моего не возвещать и гроб закрыть тотчас после того, как туда будет положено вскрытое и снова убранное тело.
4) На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал.
6) Места погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично, но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит и прошло время помнить о моей могиле.
7) Если бы, однако, объявились люди, которые захотели бы проявить чем-нибудь любовь ко мне, то я от этого не отстраняюсь и указываю им, что они могут сделать для меня отрадного: я прошу их вспомнить и отыскать девочку, сироту Варвару Ивановну Долину, которую я взял беспомощною с двух лет и воспитывал ее и сожалел ее. Прошу всех, желающих явить свою любовь ко мне, — перевести это чувство на бедную Варю, которую я любил. Прошу помогать ей добрым советом и участием к ней, ласкою и утешением и заботою о ее устройстве.
8) В годовщины смерти моей прошу моих доброжелателей и друзей осведомляться у Н. Ф. Зандрока и 3. А. Макшеева о положении Вари и посоветоваться, не может ли кто-нибудь оказать ей что-либо полезное. Кто это сделает, тот окажет мне наилучшую дружбу, которая будет иметь для меня особую свою, истинную цену.
9) Некоторые думали и говорили, будто Варя Долина есть моя дочь. Я не знаю, для чего бы я стал это скрывать, но это неправда. Я взял ее просто по состраданию, но при ее посредстве мне дано было узнать, что своих и не своих детей человек может любить совершенно одинаково. Советую испробовать это тем, кому это кажется трудным и маловероятным. Это и верно и легко.
10) Если бы обстоятельства показали, что до совершеннолетия Вари Долиной, для устройства ее, может иметь значение какая-нибудь складчина, то я этому не противоречу. Я сам устраивал подобные дела для сирот и думаю, что могу принять такое участие от других для призренной мною сироты.
11) Литературный фонд умоляю не отказать Варваре Долиной в содействии к тому, чтобы она могла докончить свое образование в каком возможно заведении, соответствующем началу, какое она уже получила. Зандрока и Макшеева прошу узнать, что может быть оказано Литературным фондом.
И 12) прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба богу, в коего я и верю и которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову господа моего Иисуса Христа” [См.: Фаресов, с. 143. Автограф затерялся у душеприказчика. Пятый пункт говорил о наследниках и о назначении душеприказчиками “живущих в Петербурге” управляющего книжным магазином “Нового времени” Н. Ф. Зандрока и 3. А. Макшеева. Увы, Зандрок еще в начале 1893 года покинул Петербург и жил уже в Барнауле. Единственным исполнителем литературного завещания очутился глубоко нелитературный человек. Это гибельно сказалось на судьбе архива Лескова.].
Часам к четырем утра все уехали. Ушел и, как всегда бесполезный, “Витенька” Протейкинский.
В надежде подать объявление о кончине, конечно без указаний “о каких-либо нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа”, я поехал в типографию “Нового времени”. Метранпаж заявил, что номер уже печатается и поместить объявление в “сегодняшний” номер нет никакой возможности. Оно появилось в № 6809 от 22 февраля:
В ночь на 21-е февраля,
в 1 час 20 минут,
скончался
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ
Ушли уже и телеграммы в Киев, Ржищев и Бурты.
Рано утром была извещена Л. Н. Веселитская и вызван мною лесковский фотограф Н. А. Чесноков. Вдвоем с ним мы выдвинули диван из угла к свету, после чего сделаны были снимки [Требует точной установки, что у Лескова, скончавшегося во сне, глаза, разумеется, были закрыты, хотя и не до отказа плотно. Аппарат, поставленный на одном с ними уровне, это неукоснительно запечатлел. Дозакрывать их не было решительно никакой нужды. Написанные по моей просьбе воспоминания Е. И. Борхсениус, экземпляр которых имеется в Пушкинском доме, а подлинник у меня, в данном случае совершенно недостоверны.]. Тут мы немножко напутали с подушками, которыми приподняли корпус и голову покойного. Снята была и главная стена кабинета, каким он был последние три года. Раньше, почти всегда, письменный стол стоял посередине комнаты, не прислоненным, как сейчас вплотную к стене.
Между 11 и 12 часами выдалось отсутствие посторонних. Вспомнив старинный “пейкеровский” прием, я взял с письменного стола маленькое, в мягком черном шагреневом переплете Евангелие, не глядя развернул его и прочел первый стих первой попавшейся главы. Стих гласил о жизни “по тот бок сени смертной”.
Услышав в передней какой-то затяжной говор, я положил книжечку “нараскрышку”, как держал, переплетом вверх, на тот же стол, а сам направился на голоса.
В дверях стоял Атава. Возмущенный его третьеводнишним газетным ноздревством, я смотрел на него, не произнося ни слова.
— Родитель у себя? — в высоком регистре, нарастяжку, хорошо пострадавшими голосовыми связками произнес он, почему-то не придав никакого значения тому, что впустил его в отцовскую квартиру мой денщик, что я в будень нахожусь не на службе, а у отца.
Я молча наклонил голову.
— Изволят почивать? — продолжал он.
— Сегодня во втором ночи скончался.
Откинув голову и оплечье, он пошатнулся и схватился правой рукой за спинку подвернувшегося кресла. Обрюзгшее кирпично-красное лицо его, в склеротических пятнах и жилках, мгновенно побелело.
— Что? Как? Когда?
— Сегодня ночью.
Утерев всегда слезившиеся глаза и собрав силы, он, тяжело дыша и как бы глотая воздух, взглянул на раскрытую дверь в спальню.
— Там?
— Там.
— Можно?
— Можно.
Диван после снимка оставался почти посередине комнаты, в свету. Терпигорев грузно опустился на колени, уронил пепельную голову, несколько раз перекрестился и замер.
— Ну, — сказал он, трудно поднимаясь и астматически высвобождая шею из воротника рубашки, — теперь мой черед. Мой, — повторил он, выходя со мною в кабинет.