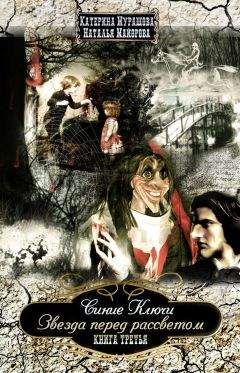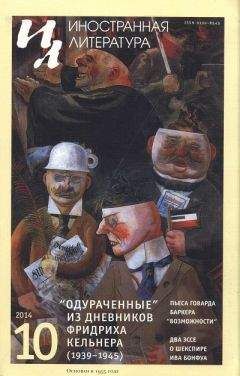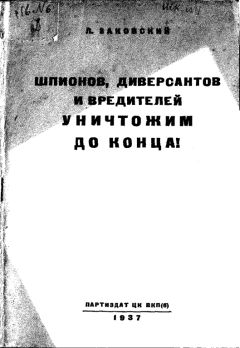Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага
Я живу хорошо, здоровье мое укрепляется (бабушке было уже 56 лет), я теперь могу много работать и не устаю. Мы устроили грандиозный огород, если все вырастет, овощей будет в избытке, посадили картошки, посеяли яровой пшеницы (уже взошла) и даже посеяли лен и гречу. На прошлой неделе мы с Копчиком гастролировали в колхозе Калиньево (помогали колхозу на пахоте), могу гордиться, что по всем моим квалификациям получила признание первоклассного пахаря, вспахала полтора гектара в три дня, норму повысила в день на десять сотых. Постепенно стараюсь привести в порядок Верочкино хозяйство, вспомнила старину, сама чиню сбрую, столярничаю и слесарничаю. Если бы я не тосковала так по вас всех, мне было бы хорошо. Здесь такая великолепная весна. Маюся моя родная хотела приехать на пять дней в отпуск но что-то не едет. Я отправляюсь к ней поглядеть на нее, я теперь хожу во Владимир прямым путем через Жерехово на Юрьевское шоссе, так лишь 32 км. и очень красивая дорога…»
Конец декабря 1942 года. Из Орехова — в Новосибирск.
«С Новым Годом, дорогие мои Кирилл и Лизанька. Будем надеяться, что в 43 году опять все будем вместе. Мне так грустно, что я не могла послать Вам ничего существенного. Как-то Вы живете, родные? Теперь я только могу тосковать душой о Вас, а помочь не могу… Дорогие любимые, постоянно о Вас беспокоюсь, как Вы переносите холода, есть ли у Вас теплые шапки, валенки, рукавицы… Здесь у нас морозы 40–35 градусов по Цельсию. Хожу в куртке, которую вы мне подарили, и в шлеме. К морозу совсем привыкла. На дворе теплее чем в доме. Ночью вода мерзнет на столе. Сплю на лежанке. Но, оказывается, в деревне холод все же гораздо легче переносится, чем в городе. Я живу хорошо. Все бы хорошо, но что-то каждую ночь вижу тебя, сынок, во сне…».
10 февраля 1943 года. Владимир.
«Дорогие мои любимые! Каждый день такие великолепные известия с фронтов, опять жить хочется, чтобы увидать, как будет хорошо, когда эта ужасная война кончится. Скоро весна, дорогие. Я пока еще в деревне. В Москве в Академии без меня, кажется, ничего не двигается. А я как-то раздвоилась. И по своей работе скучаю: я ведь не дописала третью часть своей книги, и поправлять надо все, что война разрушила. Новгород и Киев, наверное, скоро будут наши. Все памятники потребуют реставрации… Лошадь мы еще не достали, но не теряем надежды (старый и верный Копчик пал). Семена у нас все готовы — их больше, чем в прошлом году. Я рада, что мой табак вам доставил удовольствие. Я достала семена турецкого и уже приготовила место, где его посадить, он будет великолепен, лучше покупного. В прошлом году я садила дыни. Они вышли плохо — очень маленькие, но были вкусны и необыкновенно душисты; теперь я знаю, как их сажать… Если бы я поработала еще лето, Орехово прокормило бы и музей и московских, но без меня все развалится. Верочка последнее время стала все болеть, у нея постоянные головные боли. Начала писать Жуковского к 1947 году (сто лет со дня рождения). Очень трудно…»
8 января 1946 года. Москва. Сыну Кириллу — в Берлин.
«…Здоровье мое сейчас Слава Богу хорошо. Дома все благополучно. Мая с утра до ночи работает. Детка (Екатерина младшая, которой уже почти год) наша радость, растет и становится очень бойкая. Она будет умная, добрая и ласковая. Я ее очень люблю. Она мне напоминает моего Килялю. Она твоя крестница. Меня сейчас разрывают на части. Наши реставрационные дела в положении полного неустройства. Умер П.И. Юкин и теперь осталось нас всего 3 реставратора, а работы масса. И к юбилею (Н.Е. Жуковского в 1947 году) надо готовиться, писать биографию… Родной, я получила письмо от твоего отца очень милое и трогательное. Я мечтаю о его переезде к нам. Посылаю тебе копию. Само письмо мне будет нужно в посольстве, если можно будет что-нибудь предпринять (Ничего не получилось). Целую тебя, родной. Будь здоров. Мама».
Поздняя осень 1946 года. Сыну Кириллу в Потсдам.
Я только что вернулась из летних путешествий. После Владимира (Реставрация фресок в Троице-Сергиевой Лавре) ездила работать в Керчь и в Киев. Керчь совершенно разрушена. Склеп Деметры был в совершенно невозможном виде, там жили немцы, и было раньше бомбоубежище, можешь себе представить, что сталось со стенами и сводом. Деметра уцелела, я сделала что могла, привела склеп в порядок. В Киеве работала без удовольствия. Там в управлении много хозяев, а толку никакого. Исписала «десть» бумаги на заключения и рада была уехать. Предполагалась экспедиция на Балканы, куда и меня включили, но видимо, в виду холодов не поедут. Хочу побыть дома и заняться Жуковским… Сегодня мороз, но показалось солнце. Мая ушла в институт. Она теперь на 4 курсе. Хорошо лепит и рисует. Наша радость — чудесная, толстенькая, розовая Катюшка — спит. Она твоя крестница, детка великолепная. Очень хорошенькая и умная, говорят, похожа на меня, моя радость. Не забывай. Мама».
19 апреля 1955 года Москва. В Орехово — сестре Вере.
«Дорогая Веринька, как ты там изворачиваешься, наверно сидишь без копейки и топишься сырыми ивовыми дровами, от которых кроме дыму и угара ничего не получишь. Начал ли у Вас таять снег, грачи давно прилетели, жаворонки тоже, дороги наверно почернели и осели. Нынешний год ждут большого паводка. Не самостоятельные наши ореховцы. Какие бы пруды могли сделать внизу и на Морозове. Ничего нет невозможного, было бы желание… Я все пишу Жуковского и совсем с ним замучилась, не знаю, чем кончится. Шура (брат) совсем отступился и не приходит, как его дела — не знаю, кажется поправились… Я бы на твоем месте постаралась бы вспахать полосу вдоль канавы от ясени до дороги, унавозить и посадить там картошку и овощи. Только надо загородить хотя бы лапником от кур. Все это конечно почти невыполнимо чужими руками… Я не лежу все время, хожу, но отеки не проходят. Видно так уже будет до конца».
Это письмо было написано за год до кончины Веры Александровны и за десять — до смерти бабушки. Уже осенью Екатерине Александровне пришлось забрать тяжело больную сестру к себе в Москву. Сама Екатерина Александровна уже в это время была очень больна. С этого времени она уже не выходила из дома, хотя и жили мы в Москве не высоко — в бельэтаже. Но и этого уже не позволяло измотанное ее, еле живое сердце. Только живая память поддерживала ее воспоминаниями об ореховских полях и жаворонках, которых она уже больше никогда не смогла ни увидеть, ни услышать, как не вижу их уже много лет и я, и вряд ли увижу.
Благодаря удивительной любви и уходу за бабушкой моей матери она прожила в таком состоянии целых десять лет. Скончалась в марте 1965 года.