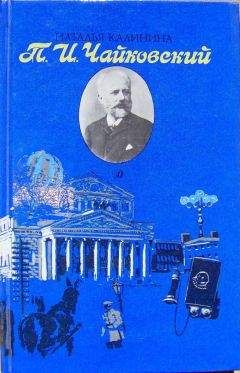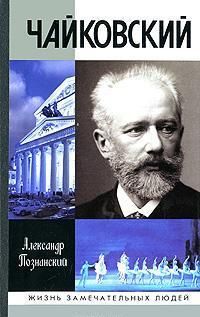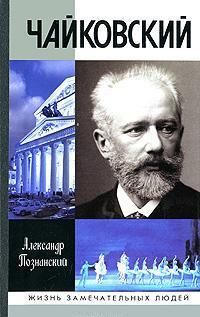Александр Познанский - Чайковский
Накал любовного томления не ослабевал. Вот очередное эпистолярное признание 29 декабря 1891 года: «Ты постоянно в моих мыслях, ибо при каждом ощущении печали, при каждом омрачении мысленного горизонта подобно лучу света является мысль, что ты существуешь и что я тебя… увижу». Обожая детские фотографии племянника, он писал ему 19 июля 1892 года: «Боб! У меня к тебе огромная просьба. Есть ваша семейная группа, снятая в Киеве должно быть в 1881 году. Ты на этой группе божественно очарователен и напоминаешь мне одну из самых восхитительных пор твоего расцвета. Итак, я хочу, чтобы мне сделали большой, увеличенный в 20 раз снимок с тебя. <…> Это моя idée-fixe (навязчивая идея. — фр.)».
Об отношении же самого племянника к дяде (которого он называл, будучи ребенком, «Питуся» и «Пепик», а затем — «ПИЧ» и «дядя Петя»), отразившемся в их переписке, В. Соколов справедливо замечает: «В них можно найти элементы и любви и равнодушия, высокую оценку творческого гения композитора и трезвый взгляд на себя (как предмет обожания), но, пожалуй, определяющим чувством племянника, как показывают его письма, было беспредельное уважение к знаменитому дяде». К примеру: «Я никак не могу примириться с тем, что ты меня любишь не за то, что я хороший, а за то, что я — Я, и что если я окажусь дурным (как и есть в действительности), то ты не перестанешь меня любить, потому что я не перестану быть самим собой. Если бы ты меня любил за то, что я тебя обожаю, то было бы понятно, но, по твоим словам, ты меня полюбил, когда я еще не был в состоянии любить кого бы то ни было. <…> Почему ты не хочешь приехать теперь на несколько дней? <…> Ведь я же приехал к тебе!!! Мне страшно хочется тебя видеть».
Как и братья Чайковские, Боб Давыдов осознал свою неортодоксальную сексуальную ориентацию в Училище правоведения. Его любовь к однокласснику Рудольфу Буксгевдену растянулась на несколько лет. О своих предпочтениях в этой сфере он упоминает в 1890 году в письме Модесту Ильичу: «Мое извращение (как называют это другие) или мои наклонности выработались совершенно самостоятельно, и хотя во многих случаях [ты] можешь назваться смело моим Прометеем, в этом же [надо] признать виновницей одну мою природу!»
Конфидентом и поверенным племянника стал Модест, что и понятно, поскольку в Петербурге они главным образом жили вместе. В приведенном письме ему Боб замечает, что «давно уже знал» о гомосексуальности последнего, и вряд ли можно усомниться в его (как, собственно, и прочих членов семейства Чайковских — Давыдовых) осведомленности на этот же счет по поводу Петра Ильича. В свою очередь, тот сразу узнал от младшего брата об интимных предпочтениях своего любимца. Его интерес к нему резко вырос начиная именно с 1890 года, и в их переписке проскальзывает связанная с этими вкусами некоторая двусмысленность, а затем возникает и взаимопонимание. Новые друзья Боба Александр Литке и его брат Константин нравились Чайковскому на правах родственников, однако он был встревожен знакомством молодого человека с Апухтиным. В сентябре 1890 года Боб писал о встречах с поэтом в Петербурге: «Вернувшись сегодня из училища, я собирался поехать к Юрию (младший брат, поступивший в военное училище. — А. #.), но, к моему удивлению, вдруг входит Апухтин, который с некоторых пор ужасно ко мне благоволит, и мне пришлось с ним провести 2 часа в tête-a-têt’e, что не всегда бывает весело. Дядя Модя, как тебе известно, уехал вчера и наказал строго-настрого, чтобы я никого не пускал к себе, пока он не вернется (как козлята). И вдруг Апухтин — я думал, что он именно волк и хотел меня съесть — пока он этого еще не сделал, но попытка была».
Ответное письмо от 5 октября 1890 года исполнено негодованием: «Мне страшно не нравится твое сближение с Апухтиным. Я тебя убедительно прошу быть от него подальше. Причины говорить мне не хочется, ибо придется высказать давно уже установившееся у меня в глубине души мнение об Апухтине, которое я никогда не высказываю, ибо оно не вяжется с моими, по-видимому, дружественными к нему отношениями. Апухтин — человек очень приятный в обществе, и ты можешь сколько угодно наслаждаться его остроумием в многочисленном обществе. Но до дружбы и до частых tête-a-têt’oe, ради Бога, не доходи. Ничего хорошего от этого выйти не может, да и приятного мало, ибо Апухтин интересен только в обществе. Если во время моего пребывания в Петербурге ты будешь часто с ним видеться, то это совершенно отравит мою жизнь там». В этом письме выражается очевидное беспокойство о возможности не только духовного, но, как видно, и телесного совращения Апухтиным юного адресата.
Однако композитора не устраивала и главная, судя по всему, очень пылкая привязанность Боба к его сверстнику барону Буксгевдену. «Для того чтобы я решился ехать в Каменку, нужно, чтобы ты этого очень пожелал. А ты вовсе этого особенно не желаешь; тебе лишь бы твой противный Рудька приехал — больше ничего не нужно», — писал он ему 11 июля 1891 года.
27 сентября 1893 года он спешит оправдаться перед Бобом, давшим ему понять, что обижен за ближайшего друга, обвиненного дядей в глупости: «Если я в самом деле выразился, что Рудя глуп — то беру это слово назад. Нет, он не то, что глуп, а мало интересен, безличен. Возьми, нап[ример], Саню Литке. По всей вероятности, они равны в отношении ума, но у Сани есть много своеобразности, пикантности, тонкости, — словом, он нередко может проявить известную прелесть своей индивидуальности. Но какая прелесть в Руде? Ровно никакой. Просто добрый, изящный, деликатный и смазливый (а не красивый) малый. Впрочем, честное слово, я люблю очень Рудю, я только не понимаю твоей канители с ним. Прости, ради бога, никогда больше не буду, не сердись, миленький мой! <…> Пожалуйста, не сердись за мнение о Руде». Ревность его к Буксгевдену забавно отразилась в письме самого племянника Модесту в 1891 году: «Я, между прочим, придумал карикатуру, могущую охарактеризовать наши отношения с Рудей. — Пьедестал, на пьедестале стоит он, под пьедесталом разведен костер, в который я поминутно подкладываю топливо, состоящее из билетов в театр, меню обедов, и кусочки дяди Пети и тебя — между прочим, дядя Петя иногда оказывается сырым и шипит».
Вместо Чайковского, страстно его любившего, молодой человек ставит на пьедестал одноклассника. Как свидетельствуют архивные материалы, Модест, опекавший Боба в Петербурге, пользовался бблыиим доверием племянника, чем его знаменитый брат. Как отмечает Соколов, «со временем среди посвященных оказался и Петр Ильич, но степень интимности в общении с ним у Боба была неизмеримо ниже — этого композитор не мог не чувствовать, как не мог, наверное, не переживать по поводу его влюбленности [в Буксгевдена].<…> Вряд ли Чайковский испытывал ревность к Модесту Ильичу, с которым был связан узами взаимной братской любви и творческой дружбы, но, несомненно, композитор понимал, что у самого его дорогого человека — Боба есть люди более близкие, чем он».