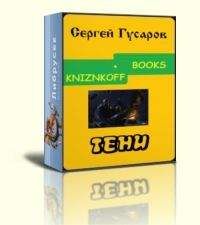Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)
Тот поколебался и взял обе бумажки.
Он ловко выбрал время, чтобы сунуть мою записку, — то ли нэпман, то ли замнаркома пошел к буфету выбирать конфеты. Читая, незнакомка осветилась улыбкой — она хорошо улыбалась.
Официант вернул мою писульку с ласковой карандашной припиской на обороте: «Милый мальчик, я вам не по карману».
— Моя взяла! Жена так не ответит! — ликовал Бюрно. — Приступаем ко второму ужину.
— Плохой ответ! Откуда она знает, что у нас в карманах? — обиделся за меня Берзан. — На двойной ужин не тянет. Будем жрать «наполеоны» в «Астории».
Я тоже посчитал, что такой ответ лучше подсластить, а не заесть. Мы отправились на Исакиевскую площадь, в кафе при гостинице «Астория». Слоеные пирожные местного изготовления славились на весь город: в два раза крупней обычных, в четыре раза дороже, они, по общему мнению, были ровно в десять раз вкуснее. А об их творце, пожилом кондитере, говорили, что сам Микоян установил ему персональную ставку — и она была выше наркомовской. Я не раз заявлял, что искусство кондитера «Астории» по масштабу равно мастерству его одесского коллеги Дуварджоглу. Но только бывшие одесситы понимали, какой высокой меркой я мерил ленинградца. Когда у меня заводились хоть какие-то лишние деньги, я забегал в «Асторию», чтобы купить домой что-нибудь вкусненькое.
Вечер закончился очень сладко.
Как-то мы еще раз получили премию — но такую, что больше чем на пиво с сосисками ее не хватало.
Дело шло к белым ночам. Мы поехали на «острова» — так ленинградцы называли эти клочки зеленой земли между тремя Невками (Большой, Средней и Малой). На островах было пустынно (настоящее лето еще не пришло) и довольно прохладно. Мы укрылись в недавно открытом кафе. В зале не было ни одного посетителя, а в меню значилось любимое блюдо того времени — горячие сосиски с тушеной кислой капустой.
— Пива и сисисок! — распорядился я, когда к нам нехотя подвалила полная официантка.
Она вдруг обиделась.
— Гражданин, прошу не выражаться! Я понимаю, на что вы намекаете.
— Я намекаю только на то, что нам хочется пива с сисисками, — сказал я.
Она даже покраснела от негодования.
— Не ожидала, чтобы такие культурные люди… Я позову заведующую, если будете грубить.
— Грубить не буду, а пива с сисисками требую, — не унимался я.
Она убежала на кухню — и вскоре появилась с заведующей (габариты этой дамы были еще солиднее). Заведующая начала разговор мирно.
— Ребята, что же вы так? Не ожидала!
— Чего не ожидали? — Я по-прежнему солировал.
— Ну, этого… Не надо безобразничать, ребята.
— Мы не безобразничаем. Мы культурно просим выдать означенную в меню порцию горячих сисисок с тушеной капустой.
Заведующая распалилась пуще официантки.
— Я позову милиционера, — пригрозила она. — Он научит вас, чтобы публично не выражались.
Мы молча ждали милиционера.
Официантка, на всякий случай отошедшая подальше, зорко следила: скоро ли мы начнем бить посуду и ломать стулья?
Милиционер, видимо, сидел на кухне — он появился вместе с разгневанной заведующей. Это был молодой решительный парень в новенькой форме. Ему, очевидно, уже обрисовали ситуацию, и он был готов к действиям.
— Граждане, не надо хулиганить публично, я этого не позволяю, — обратился он к нам.
— Мы и не думаем хулиганить, товарищ милиционер, — вежливо возразил я. — Я просто, как нормальный посетитель, мирно, без крика попросил, чтобы нам выдали по порции горячих сисисок с тушеной…
— Вот видите, опять! — гневно закричала заведующая. — Неужели оставлять таких без наказания?
— Категорически запрещаю! — строго распорядился милиционер. — Чтобы никаких нехороших слов!
— Каких именно слов, товарищ милиционер? — невинно поинтересовался я.
— Этих… Что за сиски в государственном учреждении? Почему не говорите как приличные граждане — сосиски?
— Послушайте меня внимательно, товарищ милиционер, и вы, товарищи милые женщины, — терпеливо убеждал я. — Неужели до вас не доходит? Скажу я сосиски или сисиски — сиски все равно будут присутствовать.
Милиционер не на шутку рассердился.
— Вы мне баки не забивайте! Не разрешаю, чтобы присутствовали. Вот что я вам скажу, граждане: уматывайте отсюда по-хорошему, пока я не приступил к исполнению служебных обязанностей.
Мы убрались из негостеприимного кафе. И до ночной серости шатались голодные по зеленым прибрежным уголкам — больше забегаловок на «островах» не было.
И весь долгий сияющий вечер у нас было хорошее настроение.
6
Осенью 1935 года Нору зачислили в студию Камерного театра.
Я ждал этого с нетерпением и страхом: боялся, что она провалится и останется в Одессе. Одесса была для меня недоступна. Москва была не просто ближе — она гарантировала хоть какое-то облегчение. Я просто не знал, как Нора сумеет пережить второй после нашего разрыва удар — провал на экзаменах.
Я все больше понимал, что разрыв этот был всего лишь формальным — она оставалась со мной, во мне. Уже в первые свои ленинградские дни я стал заваливать ее письмами. Бывало, я приезжал в город из своего тайского заточения лишь для того, чтобы побывать на центральном почтамте: не пришло ли письмо до востребования?
А когда письмо приходило, начинались новые мучения: его надо было уничтожить, чтобы не прочла Фира, а у меня не хватало сил порвать бумагу, на которой были слова, написанные Нориной рукой. Я жил двойной жизнью — и терял к себе уважение. Я скрывался и лицемерил.
У нас с Фирой было неоговоренное, но свято соблюдаемое условие: о Норе мы не говорили. Но я не выдержал и рассказал, что она уже в театре.
— Ты, конечно, поздравил ее, раз ты с ней все-таки переписываешься, — сказала Фира.
— Разумеется, поздравил! Не мешало бы и тебе это сделать. А что до переписки… Я обещал порвать нашу связь. Но перестать интересоваться ее жизнью — такого обещания я не давал!
— Вспоминаю, ты не обещал и стать к ней безразличным… Все-таки хорошо, что она выбрала московский, а не ленинградский театр. Поздравь ее от меня сам, я ей писать не буду. Она слишком красива, чтобы я с ней дружила.
Фира и раньше почему-то напирала на Норину красоту, хотя (я знал это твердо!) было в Норе нечто, что покоряло меня гораздо сильнее.
Удачное поступление бурно взметнуло мои воспоминания. Я не мог никому ничего сказать — и снова стал переносить свои тайные переживания в рифмованные строчки. Я писал и перечеркивал, снова писал — я и раньше так работал. Но появилось и нечто новое: я заметил, что стал терять свой талант. Уже не было прежней легкости, не стало улучшающих переделок… Да, конечно, я по-прежнему старался: что-то менял, что-то говорил по-новому — но стихи от этого лучше не становились. Говорят, поэзия заканчивается в молодости, единственное исключение — Гете — только подтверждает это правило. Неужели закончились и мои стихи?