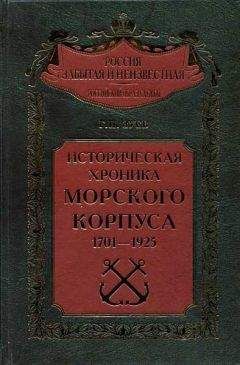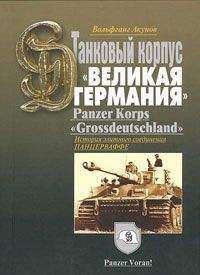Владимир Новиков - Александр Блок
Блоку нравится: ритм западает в память и отзовется потом в стихотворении «Жду я смерти близ денницы…». Сам он знакомит собрание с «Фабрикой» и с сентиментальными стихами о «детской комнатке»:
Нянюшка села и задумалась.
Лучики побежали — три лучика.
«Нянюшка, о чем ты задумалась?
Расскажи про святого мученика».
Уходят Бальмонт и Брюсов. За вторым ужином читают только Белый и Блок. Стихи звучат до ночи. Белый электризует атмосферу, он «неподражаем» (слово из письма Блока матери, которое он пишет в течение шести дней в дневниковой форме).
Кульминацией становится чтение Блоком стихотворения «Из газет» — о самоубийстве женщины на Балтийском вокзале, случившемся в минувшем декабре:
Встала в сияньи. Крестила детей.
И дети увидели радостный сон.
Положила, до полу клонясь головой,
Последний земной поклон.
Что называется, «социальное» стихотворение. Но сюжет газетной хроники подсвечен изнутри таинственным сияньем. Некрасов, помноженный на Достоевского. И — музыка. Уход от монотонии трехсложника к прерывистому дольнику, в каждом стихе — поворот интонации:
Мамочке не больно, розовые детки.
Мамочка сама на рельсы легла.
Доброму человеку, толстой соседке,
Спасибо, спасибо. Мама не могла…
Мамочке хорошо. Мама умерла.
Слушатели в черных сюртуках вскакивают со стульев. Раздаются крики: Блок — первый в России поэт!
Комплименты по исполнении стихов — дело обычное. Слишком обольщаться ими неразумно, но иногда стоит поверить похвалам. Чтобы не пропустить день рождения собственной славы.
На следующий день Блоки едут с Сережей Соловьевым на конке в Новодевичий монастырь. По дороге Сережа куражится и скандалит, пугая публику громкими разговорами о воскресении мертвых, потом заговаривает с Блоком по-гречески. Весело!
В Новодевичьем — яркое солнце. Полукруги икон под куполом храма особенно хороши, когда на них смотришь сквозь ветви обнаженных дерев.
На монастырском кладбище покоятся ушедшие Соловьевы. Блок вспоминает, как полтора года назад стоял здесь у могилы Владимира Сергеевича. Как проходили мимо деревянного креста черные монахини, как послышался шум поезда и вспомнилась соловьевская строка «Гул железного пути»…
Потом — Кремль, прогулка мимо всех соборов, окрашенных вечерней зарей. Неподалеку обитает Григорий Алексеевич Рачинский, Сережин опекун, человек утонченный и галантный. Блоку нравится и то, как он целует Любе руку, и вся атмосфера «художественно-уютных комнаток» квартиры Рачинских. Отмечаются именины хозяйки дома.
От Иверских ворот Блоки с Сережей отправляются в дом на Спиридоновке. Половина неба — страшного лилового цвета. Что пророчат зеленая звезда и рогатый месяц?
Вечером приходит Белый. Тесная компания пьет церковное вино и ведет разговор «тяжеловажный и прекрасный» (как будет сказано в письме к матери). Любовь Дмитриевна проста и изящна. Возникает атмосфера близости, доверия, пленительной тайны. Возникает союз, «конкретное братство», по позднейшим словам Белого. Блок причастен к нему в той же степени, что и остальные.
Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим, выси мерим,
Вечно ждем трубы.
Вечно — завтра. У решетки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.
Это начало первой из «Молитв», которую Блок сложит весной. А в эпиграфе — строка Белого «Наш Арго!» из стихотворения «Золотое руно», ставшего гимном московских «аргонавтов». Идея полета к солнцу, соединения небесного и земного Блоку близка, это еще одна из мелодий его поэтической музыки.
И для Любови Дмитриевны выпавшая ей в этой общности роль «Души Мира», «Софии Премудрости» — нова и интересна. Игра — ее призвание, а тут затевается игра с целым мирозданием. «„Космизм” — это одна из моих основ», — напишет она потом, без рисовки.
Дальнейший ход мистериального действа непредсказуем. А смотреть на творимую легенду с точки зрения здраво-житейской — и не хочется и не дано. Простое житейское счастье — это, увы, для других.
У каждого из этих московских дней — свое лицо. Вторник 13-е — посещение издательства «Скорпион» и вечер с «грифами».
В «Скорпионе», где висит портрет Ницше, Блок беседует с издателем Поляковым, с поэтом Юргисом Балтрушайтисом и «особенно» — с Брюсовым. Внимательно всматривается в него, а через десять дней напишет Александру Гиппиусу: «Голова его стрижена чуть-чуть необычно. Но на затылке (однажды он наклонился) в одном месте есть отсутствие загара, почти детское, и в одной манере его пронзительной речи есть нечто почти детское. Но сколько надо усилий, чтобы открыть пятнышко на затылке, белизну в речи!»
И далее — итог раздумий о Брюсове: «Бывают и такие — и пусть. Если бы были одни такие, жить было бы нельзя».
Собрание же «Грифов» оставляет тягостное впечатление. Ждут Бальмонта, он является пьяный. Возникает ссора между ним и Эллисом [16], который, кстати, за это время успел вызвать и у Блока глубокое отвращение. Эллис удаляется.
Бальмонт просит Блока читать. Прослушав, выражает бурный восторг, но не без оттенка покровительства: «Вы выросли в деревне…» Странный комплимент… И все оценки — в сравнении с самим собой. Мол, послушав вас, больше не люблю своих стихов. Между тем стихи, прочитанные Бальмонтом, хороши.
Среда — это епископ Антоний. К нему в Донской монастырь Блоки едут вместе с Белым, Петровским и Ниной Ивановной Соколовой. «Показания» участников разнятся.
А. Белый: «Мы Блока возили к Антонию, в то свидание Антоний молчал. Молчал и А. А., потускневший, немой. Выходило: Петровский и я затащили насильно к Антонию Блока».
Блок в письме к матери: «Сидим у него, говорит много и хорошо. Любе — очень хорошо, многое и мне. О Мережковских и „Новом пути”. Обещал приехать к нам в Петербурге. Прекрасный, иногда грозный, худой, с горящими глазами, но без „прозорливости”, с оттенком иронии. О схиме, браке. Идем из монастыря пешком (пятеро)».
Поскольку Блок зафиксировал это событие по горячим следам, его «отчет», очевидно, достоверен. Но примечательно и фантастическое расхождение двух сообщений. Белый задним числом привносит ноту разлада и взаимонепонимания, Блок же спокойно констатирует тот миг гармонии, что присутствовал во встрече.
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](/uploads/posts/books/48021/48021.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](/uploads/posts/books/50071/50071.jpg)