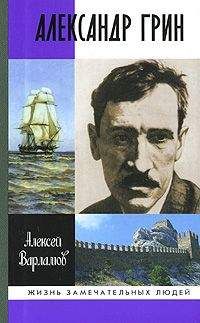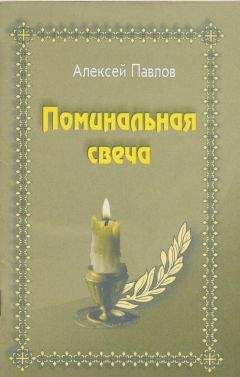Алексей Варламов - Пришвин
Какой уж тут рыцарь? Скелетным можно было бы назвать пришвинский жесткий и подростковый обиженный ответ… Но переписка их на этом прекратилась, и никогда больше они не встречались, хотя встретиться, случайно или намеренно, могли.
Пройдут еще те самые десять лет, через которые Пришвин грозился ошеломить седую, как императрица, свою возлюбленную, и умудренный писатель, теперь уже никого не осуждая, совершенно иначе взглянет на эту ситуацию и напишет о своем первом любовном романе: «Он обобрал ее как девушку совершенно, взял с собой всю ее девичью душу и не дотронулся даже до тела, а потом, через десять лет, когда она совершенно высохла в бюро и поседела даже, то послал ей копию с его картины – портрет ее прекрасной души, – какое можно выдумать большее оскорбление! Между тем, он был искренним, потому что он был художник и считал, что остановленное мгновение жизни дороже проходящего. Она же и была вся там, в этом проходящем мгновенье (Для чего ее разбудили!)».[142]
А еще через двадцать лет, уже совсем пожилой, будет судить одного себя: «Страсть не обманывает, страсть – это сама правда, обман выходит из подмены страсти физической ее духовным эквивалентом, от чего любовь распадается на животную (презренную) и человеческую (возвышенную), между тем как истинная любовь как борьба за личность человека одна. Написано по поводу любви моей к Варваре Петровне Измалковой, представшей мне как подмена естественной страсти. Подлость тут скрывается в том, что недоступность была потребностью моего духа, быть может, просто даже условие обнаружения дремлющего во мне таланта».[143]
И еще одно очень важное признание:
«И горб мой, узел, которым связано все мое существо, есть непонятная тяга к женщине, которую я не знаю и не могу знать, – мне недоступной. И самое непонятное в том, что будь она доступна, я стал бы сам создавать из нее Недоступную и утверждать в этом ее реальность.
В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь: она сразу согласилась, а мне стало стыдно, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало скучно быть женихом. Наконец, она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда и так сделалась Недоступной. Узел завязался надо мной на всю жизнь, и я стал Горбатым».[144]
Самое поразительное, что в Англии, как долгое время считалось и кочевало из одной книги о Пришвине в другую, как считал, наконец, и сам Михаил Михайлович, Измалкова не осталась, и обыденная версия, будто пришвинская муза захирела в роли банковской служащей где-то в Лондоне, как есенинская Анна Снегина, – несостоятельна. Накануне революции она вернулась в Россию, и имя ее упоминается в Дневнике Александра Блока – некогда хорошего пришвинского знакомого, но к той поре публично оскорбленного им оппонента.
В 1921 году Измалкова работала переводчицей в издательстве «Всемирная литература», основанном Горьким, куда могли привести ее либо К. Чуковский, либо Е. Замятин, либо Н. Гумилев. В дневнике Блока от 11 января 1921 года помечено: «В. П. Измалковой – „За гранью прошлых дней“». Зачеркнутый вариант: «Седое утро».[145] То и другое – сборники стихотворений Блока, изданные в 1920 году.
Это – ответ Блока на что-то подаренное ему Измалковой к новому 1921 году: в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) – записка ее, датируемая концом декабря 1920 года: «А. А. Блоку. Новогодний подарок от В. П. Измалковой».[146]
В Петербурге-Ленинграде она прожила как минимум до 1934 года, работая после упразднения в 1924 году «Всемирной литературы» преподавателем Ленинградского химико-технологического института имени Ленсовета, после чего следы ее теряются…
В конце двадцатых Пришвин отправил Варваре Петровне письмо по старому адресу: «Глубокоуважаемая Варвара Петровна. Пробую на счастье послать это письмо Вам по адресу 1912 года и просить Вашего разрешения отправить Вам свои новые книжки, в которых я, мне кажется, добился языка Вам понятного и близкого…», а через два месяца печально отметил в Дневнике: «Вчера вернулось письмо из Англии обратно».[147]
Может быть, напрасно ломают головы ученые, размышляя над тем, почему Пришвин отошел от модернизма и декадентства и двинулся в сторону наивного реализма или еще в какую-то другую, зря пишут диссертации и изучают литературные связи, школы, группы, влияния – вся эволюция пришвинского письма заключалась в единственном, простейшем и трогательно-необходимом – научиться писать на понятном для Варвары Петровны языке.
А знала она об этом или не знала, читала или не читала, – очень легко могла и прочитать, ведь в конце двадцатых – начале тридцатых Пришвин был невероятно популярен (в анонсах «Красной нови», где писателей выстраивали по ранжиру, стоял на третьем месте, после Горького и Алексея Толстого), но это одному Богу ведомо. В любом случае ему была своя дорога, ей – своя…
И, наконец, последняя запись уже совсем пожилого человека, подводящего итог жизни:
«Чем больше, и дальше, и глубже прохожу свою жизнь, тем становится все яснее, что Инна мне необходима была только в ее недоступности: необходима была для раскрытия и движения моего духа недоступная женщина, как мнимая величина».[148]
Но прежде чем раскрыть свой дух, нашему герою нужно было преодолеть еще одно испытание, которое одни люди (мужчины) проходят легко и незаметно, а другие чудовищно тяжело. Пришвин был из породы вторых – из тех, кого, как правило, и вербует искусство.[149]
«Любовь была (…) задержкой половому чувству (на Прекрасной Даме нельзя жениться!)».[150]
Глава VI
ДУХ И ПЛОТЬ
Прежде чем перейти к следующей, еще более откровенной части, мне хотелось бы сделать одно отступление. Каждый человек, в том числе и писатель, имеет право на частную жизнь, на свое privacy, как бы мы сегодня сказали. И рассуждая об интимной стороне жизни, читая дневники и письма, цитируя исключенные автором из окончательной редакции фрагменты текстов, исследователь рискует оказаться в положении человека, который подглядывает в замочную скважину. Но случай с Пришвиным особенный.
Михаил Михайлович относился к своей жизни как к объекту творчества. Он творил ее (недаром жизнетворчество было одним из ключевых для него понятий) и свой Дневник, тетрадки, куда заносил каждодневные обширные свидетельства жизни, считал главным своим произведением. Все, что ни есть в них тайного и интимного, того, что люди обыкновенно скрывают, что завещают своим душеприказчикам после их смерти уничтожить или уничтожают сами, Пришвин бережно хранил для будущего Друга-читателя, в роли которого оказались все мы, дожившие до публикации его архивов.