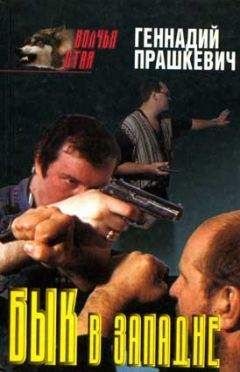София Шуазель-Гуфье - Исторические мемуары об Императоре Александре и его дворе
Невзгоды настолько погасили в несчастных пленниках само сознание жизни, что, охваченные непобедимой апатией, они поджигали пол среди комнаты, садились вокруг и подвергали себя медленному самосожжению. Так случился пожар в военном госпитале Закрета, и этот несчастный случай часто возобновлялся в деревнях. Рядом с этими ужасными картинами нищеты, обогатившиеся грабежом казаки продавали на ассигнации и за самую низкую цену слитки золота, серебра, жемчуг, часы и драгоценные вещи. В то же время они продолжали грабить по деревням. Я постоянно просила Кутузова дать охрану моим знакомым. «Какие негодяи, — говорил мне при этом фельдмаршал, — им всегда мало, вот я заставлю их вернуть награбленное». На самом деле, он принудил казаков доставить известное количество серебряных слитков для статуй двенадцати апостолов в Казанском соборе, в Петербурге. В Вильне казаки продавали детей несчастных французов, покинувших Москву, чтобы последовать за Великой армией. Бедняжки, отнятые от материнской груди, могли лишь плакать в жестких руках своих своеобразных покровителей: они не могли назвать своих родителей, которые, без сомнения, погибли во время отступления. Один итальянский певец, сопрано Торкинио, которого я раньше встречала в Вильне, где он давал уроки, и который был в Москве во время взятия ее французами (он каждый вечер пел у Наполеона, всегда просившего его спеть «Нину», сочинение Паезиелло), тоже был взят казаками и приведен в Вильну, где он был освобожден. Торкинио рассказал мне довольно любопытные вещи о своих сторожах. Каждый вечер, возвращаясь на биваки, казаки, в виде развлечения, переодевались в награбленные днем мундиры французских маршалов и генералов. Бедный Торкинио и его товарищ — итальянец, тоже хороший артист, принуждены были петь, чтобы заработать свой ужин. Усевшись на обледенелом снегу вокруг костра, освещавшего своим ярким пламенем их дикие лица и богатые одежды, представлявшие такой удивительный контраст с манерами их владетелей, — казаки, казалось, наслаждались гармоничными звуками юга, песнями, где воспевалась «возлюбленная Нина», — бесконечно чарующими песнями, которые могли бы смягчить не только этих суровых детей севера, но также их жестокий климат.
Тысячи подобных рассказов являлись предметом наших бесед в виленском обществе. Как ненавистен был нам истинный виновник всех этих бедствий! Помню, как на одном из таких собраний присутствующие стали изобретать разного рода казни для Наполеона. Особенно изобретателен был один англичанин, делавший предложения в мрачном духе своих соотечественников. Когда настал мой черед, я сказала: «Мне хотелось бы, чтобы Наполеон утонул в тех слезах, которые он заставил пролить».
Среди всех этих бедственных картин я также испытывала личные горести. Я не получала никаких известий от моего отца и братьев.
Часто приходили сказать мне, что они взяты в плен и что в данных обстоятельствах можно этому только радоваться.
ГЛАВА XI
Возвращение императора Александра в Вильну. Беседы его с автором мемуаров
Не прошло еще пятнадцати дней со времени возвращения в Вильну русских войск. Однажды утром я проснулась с той печалью, с тем стеснением сердца, которое стало для меня обычным. В этом настроении я в первую минуту пробуждения не могла дать себе отчета, — страдаю ли я от совершившегося несчастья или от предчувствия его. Вдруг пришли сказать мне, что в эту ночь приехал император. Я заплакала и воскликнула: «Ангел здесь! Мы все будем спасены!»
Днем ко мне явился с визитом милый, добрый граф Толстой, и я искренно была рада вновь увидеться с ним. Он передал мне благодарность нашего обожаемого государя.
Мы довольно долго беседовали о несчастьях, вызванных этой войной, и утешали друг друга надеждой на более счастливое будущее. Граф Толстой простился со мной. Вдруг, спускаясь уже с лестницы, он вспоминает главную цель своего визита и, поспешно возвращаясь, говорит мне: «Тысячу раз прошу извинить меня. Я забыл сказать, что государь поручил мне спросить у вас, может ли он навестить вас сегодня вечером».
Когда он вышел, я не могла удержаться от смеха и дала себе слово рассказать императору об этом новом проявлении памяти его обер-гофмаршала.
Хотя я была счастлива при мысли, что опять увижу государя, тем не менее, вспоминая о моем отце и братьях, я чувствовала невыразимое смущение. Они покинули свою страну, чтобы последовать за врагами своего государя. Они некоторым образом были к этому принуждены; тем не менее факт был налицо. Что скажу я ему? И что скажет он мне? Какое затруднительное положение!
Но присутствие Александра, благосклонное выражение тою, что он называл своей признательностью ко мне (внушавшей мне самую глубокую благодарность к его ангельской доброте, ценившей во мне небольшое доказательство моей преданности к нему), рассеяли все возникшие в моем уме облака и дали мне спокойно, безбоязненно насладиться счастьем видеть и слышать его. Наконец, сам он со свойственной ему необычайной деликатностью, казалось, угадывал мои страдания. Он следующими словами приступил к этому тягостному вопросу: «Я не могу обвинять литовцев; им пришлось уступить силе: тайна нашей тактики была им неизвестна. Они не могли предвидеть ни хода событий, ни их направления. Притом, вполне естественно было им желать восстановить свое государство. Тем не менее император Наполеон далек был от мысли осуществить их надежды, так-как он отверг все предложения, с которыми я через Балашова обратился к нему в начале кампании. Я решил тогда принести большие жертвы, чтобы сохранить мир и свободу торговли, без которой государство мое не может существовать. Что Наполеон никогда не думал о восстановлении Польши — это ясно из того, что он не принял тех уступок, на которые я был согласен. В конце концов, я терял лишь завоеванную территорию; империя оставалась неприкосновенной. Он этого не захотел. Поэтому мне пришлось проводить план действий, успех которого явился плодом нашей стойкости и помощи свыше.
Мы не могли по собственному почину пойти на риск войны против таких искусных генералов, с армией, в течение двадцати лет привыкшей побеждать и командуемой великим полководцем, таланты которого и военный гений до этой кампании не знали поражений… Скорее, чем отказаться от намеченного плана и принять условия, которые Наполеон хотел мне предписать, я готов был пожертвовать не только Москвой, но и Петербургом, и удалиться в Казань, в глубь России, хотя бы до границ Азии. И при этом, опять-таки я не рисковал настоящими границами, ибо Петербург построен на шведской земле, а Москва — наше древнее приобретение. Но, — добавил государь, улыбаясь, — я во всяком случае рассчитывал, что мне представится возможность вернуться. Повторяю, — сказал государь, — я ничего не имею против литовцев. Мы сами их покинули, но этого больше не случится».